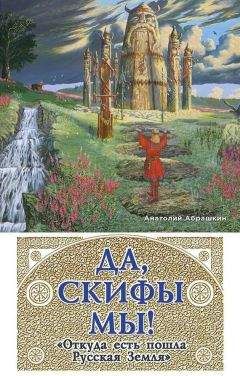Наталия Венкстерн - Казак Евстигней
В Ванькиной дымной черной избе в этот вечер царило необычное оживление. Сам хозяин за эти двое суток, казалось, как-то вырос и возмужал. Его красивое лицо с огромными блестящими черными глазами было полно энергии. Ему по-детски хотелось радоваться и веселиться, но он старательно напускал на себя важность, приличествующую его новой роли. Пугачев, не имевший возможности оставить кого-нибудь из своих людей, поручил ему управление мятежной крепостью.
Ради праздника покосившийся стол был накрыт пестрой вышитой скатертью. Жена Ваньки, веселая, круглолицая красавица Феня, подавала гостям убогую закуску и вино. Вокруг стола сидели казаки и держали свой военный совет.
Пугачевым велась такая война, при которой только что взятая крепость не могла и пяти дней считать себя в безопасности.
По необозримым степям, по дорогам и рекам двигались его партизанские отряды, часто без определенного плана, всегда без связи друг с другом. Войска правительства тоже разбивались на отряды и, увлеченные преследованием или бегством от врага, появлялись неожиданно под стенами той или иной крепости. Уследить за этим движением не было возможности. Надо было быть ежеминутно готовыми к отпору.
Об обороне-то и собрались потолковать казаки. Сразу разгорелся спор.
Казак Донька, самый молодой и потому самый горячий из присутствующих, требовал в виде первой меры уничтожения тех лиц в крепости, которых можно было подозревать в недоброжелательстве или в равнодушии к общему делу. Он нашел горячую поддержку в старом Степане, носившем название «Меченого». Это название было дано ему за изуродованное шрамом лицо. О происхождении этого шрама, лишившего его одного глаза, легко было догадаться. Это была одна из тех жестоких отметок, которые угнетатели казаков оставляли на теле своих строптивых рабов.
Много перенесший на своем веку Степан был непримирим и жесток.
— Кто против нас — всех наперечет знаю, — говорил он, насупившись.
— Из страха не с нами были, — говорил Ванька.
— А как придут енаралы, опять испужаются и к ним перекинутся, — горячился Донька.
— Не перекинутся, чай, сами понимают, что в воле слаще жить.
— Тут не о том речь идет, с кем слаще. А как подойдет дело, о том будут думать, как бы шкуру спасти, а другие есть, что прямо на деньги польстятся. Не такие времена, чтоб жалеть. Неровен час и завтра такое дело наступит, что всей силой на врага навалиться придется. Тогда наплачешься с трусами да переметчиками.
— Вижу, тебе охота душегубствовать, — сказал Ванька.
— А ты, как баба, слюни распустил. Видал, как государь с врагами расправлялся… Ты же должен с него пример брать, раз он тебя начальством поставил.
— То враги были, а ты своего же брата, без вины…
— Без вины! — закричал Степан, стукнув кулаком по столу. — Я тебе говорю, всех по пальцам перечту, кто против начальства. Теперь, известно, прикинулись овечками, а ты и жди, как они волчьи зубы казать начнут и нас передушат.
Спор делался все громче и громче и благодаря выпитому вину мог перейти в драку. Вдруг кто-то постучал в дверь. Разгоряченные разговором казаки вскочили с мест, как бы ожидая услышать какую-нибудь страшную весть.
Ванька через сени пошел отворять. К его удивлению, у порога стоял взлохмаченный Евстигней со своей всегдашней улыбкой на губах.
— Тебе что? — спросил сурово Ванька, не впуская нежданного гостя за порог.
— Дело до тебя есть, Иван Лексеевич.
— Какое еще дело? Верно чепуха какая-нибудь?
— Не чепуха, Иван Лексеевич. Сделай милость, выдь ко мне. Я тебя не задержу, всего словом одним перекинуться.
Ванька минуты две в нерешительности постоял на пороге, затем, закрыв за собой дверь, вышел к Евстигнею в темную улицу. Они отошли шага два.
— Ну, говори, что ли, — сказал Ванька.
Вдруг Евстигней вместо ответа повалился перед ним на колени и даже стукнулся головой в землю. Ванька изумленно отступил от него.
— Ты что, ума, что ли, рехнулся?
— Не рехнулся я, — простонал Евстигней, — а мучусь весь — ты один разрешить меня можешь.
Ванька с любопытством нагнулся над лежащим перед ним Евстигнеем и с удивлением увидал на его лице вместо всегдашней улыбочки выражение неподдельного горя.
— Ну, сказывай, что ли, — сказал он, тронув его за плечо.
— Скажи мне, батюшка, Иван Лексеевич, слово одно. Одно слово единственное: царь он али не царь?
— Э, брат, да ты опять про то же!
— Батюшка, Иван Лексеевич, только не серчай и дай мне тебе всю правду выложить.
— Что ж, выкладывай!
И Ванька, заложив руки в карманы, с усмешкой, стал ждать Евстигнеевой исповеди.
— Пришел я нонче с площади, — начал Евстигней, — вошел к себе в избу, сел на лавку и нашла на меня дума. Такая дума одолела, что и сказать нельзя. Прикидываю так: либо он и вправду царь, либо не царь он вовсе, а только народ обманывает. Коли царь он, то как возьмет Москву, как заведет своих бояр, опять у нас то же пойдет. Чиновника какого ни сажай — все одно будет чиновником. Кому землю ни раздавай, всякий, как разбогатеет, так народ душить начнет. Дума у меня такая: от всякого царя, нам, окромя горя, на своем веку ничего не видать, и людей вешать да стрелять за царя — только даром души губить. Прикидываю так: ни царь он вовсе, а народ обманывает только. Тогда, значит, рано или поздно, а правда наружу выйдет. И что ж тогда будет? Опять же выйдет, что зря народ сам себя мучил и на смертную муку шел. Думал я, думал, и голова у меня замутилась. Пойду-ка я к Иван Лексеевичу. Так я рассудил. Рассердится, велит меня казнить — его воля. Значит, так тому и быть, а мне, сам знаешь, терять нечего.
Когда Евстигней кончил, Иван долго молча глядел на него, как бы думая о чем-то своем и забыв о присутствии другого. Затем он встряхнулся; на лице его не было ни малейшей злобы.
— А ты слышал, что он говорил?
— Слышал.
— Хорошее говорил?
— Такое-то хорошее, только думаю…
— Знаю, знаю, думаешь, что он обманет, когда и впрямь в Москву придет. Так слушай, брат Евстигней, что я тебе скажу. Я тебя до сей поры вроде как за дурачка почитал, а теперь вижу, что ты, пожалуй, вовсе и не дурак выходишь. Ты ко мне со всей душевностью пришел и я тебе такой же ответ дам.
Ванька опять задумался, глядя куда-то вперед необыкновенно заблестевшими глазами.
— Во всем мы с тобой разные, — продолжал он — и в одном только сходимся: у обоих жизнь горькая, невмочь; у тебя, вишь, братьям лбы забрили, а у меня тятьку насмерть запороли, да сынишка на заводской работе захирел и помер. И, куда ни глянь, весь народ в горе своем одинаковый. Так как же, брат Евстигней, терпеть нам али не терпеть дольше?
На этот раз задумался Евстигней.
— Кабы можно было с себя скинуть… — нерешительно пробормотал он.
— Скинуть? Неволя не кафтан, не так-то просто скинуть. Пока скидывать будем, много крови прольется. Иной раз впустую. Только ты вот что помни: коли мы все свою шкуру жалеть будем да о своей жизни только и мыслить — конца этому никогда не будет.
— Я жизнь свою не жалею.
— Ты спрашиваешь, царь он или не царь? Скажу тебе до конца, брат, как я об этом полагаю. Не царь он вовсе и царем никогда не был. Только человек он смелый и народную нужду знает. Ты говоришь обман. И пущай обман — народ-то наш больно темен, привык к царскому имени и за царским именем охотней идет. А кто голову на плечах имеет, тот судит так же, как я. Не все ли равно, с кем идти, только бы ярмо скинуть непосильное, только один бы разок всей грудью вздохнуть, а там хоть и смерть.
Опять помолчали, глядя в глаза друг другу.
— Значит, он за народное дело, не за царское?
— Выходит, что так, потому и мы с ним.
Евстигней поклонился Ваньке в пояс.
— Спасибо тебе, Иван Лексеевич, развязал ты мою душу.
Евстигней собрался уходить, по Ванька остановил его за руку.
— Стой, — сказал он, теперь я тебе слово скажу. В избе у меня атаманы собрались, судят и рядят, чтобы всех покончить, кто против дела пойдет. Тебе, брат Евстигней, не больно-то доверяют. Поразмысли, с нами ты илы против нас. Как душа твоя тебе скажет? Если боишься — уходи прочь, я тебя так и быть, за твою прямоту и душевность из крепости выпущу.
Евстигней вырвал свою руку из руки Ваньки и взглянул на него неожиданно смелым взглядом.
— Ты меня, Иван Лексеевич, трусом почитаешь, — сказал он, да я по сию пору и в самом деле трусом был, потому что не знал, для чего и храбриться мне. Ну, а теперь сам увидишь. Ты мне объяснил, я понял, а кто из нас лучше умереть сумеет, то время покажет. Будет тебе нужда, приходи к Евстигнею, а хочешь, хоть сейчас казни меня за то, что темен я. Твоя воля.
Ванька, покачивая головой, с улыбкой поглядел вслед удалявшейся фигуре Евстигнея.
— Чудак человек! — проговорил он, но в душе у него затеплилось ласковое чувство к этому чудаку.