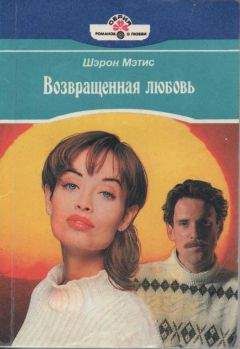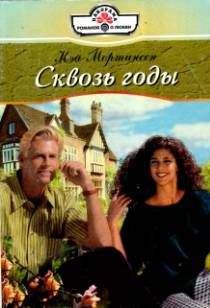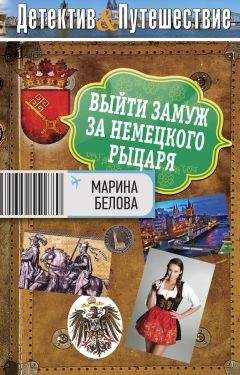Владимир Киселев - Любовь и картошка
«Как же я раньше не понимал,— думал Сережа,— что романс этот о Наташе? И обо мне. И обо всем том, что я должен ей сказать...»
Какое-то особое чувство, которому нет и названия — инстинкт, интуиция, телепатия? — подсказало артистке, что внимание зала ослабело. Она невольно усилила звук и, не меняя выражения лица, поискала глазами, что же отвлекло слушателей.
«Ах, вот оно что...» — улыбнулась про себя певица. Этот широконосый Кулиш держал за руку девочку, которая сидела возле него, а их ряд и ряд, что был за ними, смотрели не на сцену, а на эти соединенные руки.
Артистка вспомнила улицы Стокгольма, Филадельфии, Неаполя и Парижа, где юноши и девушки такого же возраста, ну, может, чуть постарше, ходят в обнимку, целуются на автобусных остановках, и с умилением подумала: «Нет, это у нас и лучше, и чище».
Впрочем, ее тут все умиляло. Особенно после того, как она поняла, как относятся к ее Эдику.
Наташа первая заметила, что на них смотрят, и выдернула руку. Сережа поднял глаза и увидел ухмыляющегося Васю Гавриленко и двух близнецов-шестиклассниц, которые глазели на Наташу, явно перенимая «передовой опыт»: вот так и они будут сидеть с мальчиками во Дворце культуры, как только перейдут в девятый класс. А если удастся — и пораньше.
— Посмотри на Ваську повнимательней,— сказал Сережа.— Чтоб запомнить, как он выглядел, когда у него еще были все зубы.
Наташа не улыбнулась. Вместе со всем залом она аплодировала артистке, которую вызывали на «бис», а затем негромко сказала то, о чем думала ночью, а потом еще целый день и не решалась сказать:
— Знаешь, Сережа... Я все-таки уеду.
— Куда? — не понял Сережа.
— К отцу. Мы получили от него письмо. Он приедет. За нами.
— А как же...— спросил Сережа. Он хотел спросить: «А как же я?.. Как же мы?..», но не решился, настолько чужой вдруг показалась ему Наташа.
— Не знаю, — ответила Наташа. — Тише, на нас смотрят.
Певица снова посмотрела в зал, туда, где сидел этот мальчишка, этот Кулиш с таким удивительным, прекрасным, широконосым и большеглазым счастливым лицом, и сразу же отвела взгляд.
«А может, и не из Кулишей, — внезапно со скукой подумала она.— Может, мне все это только вообразилось».
Глава третья
НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ
Колхоз имени 12-летия Октября имел свой собственный Необитаемый остров. С одной стороны его полукольцом охватывала река, с другой — болота и ерики. На Полесье, с его двумя миллионами гектаров болот, много таких островов, поросших черной ольхой, соснами, осинами, березами, кустарниками и толстыми, узловатыми стеблями тростника с серыми метелками.
В центре острова на поляне, сплошь застеленной фиолетово-розовым вересковым ковром, колхоз поставил охотничий дом, а вернее, небольшой домик для гостей — деревянный, с новенькой, сияющей, как начищенная латунь, соломенной стрехой. Перед домом на столе из гладко обструганных и плотно пригнанных досок лежала свернутая скатерть, рядом с ней посуда — бокалы, ложки, вилки, хлеб. Наташа отрезала ломоть хлеба, намазала маслом. Сережа почувствовал, как во рту у него собирается слюна. Ему хотелось есть. Он сплюнул и сказал:
— И все-таки это предательство.
— Сережа! — возмутилась Наташа.
В джинсах, в черном тонком свитерке она казалась Сереже такой красивой, что он старался на нее и не смотреть.
— Предательство! — повторил Сережа. — Ты не должна уезжать.
— Тебе с ветчиной или с сыром? — спросила Наташа.
— С ветчиной.
Странный у девчонок способ резать ветчину или хлеб. И у женщин тоже. На весу, в воздухе. Наташа задела локтем легкую металлическую вазу с цветами и опрокинула ее на стол.
— Да убери ты эти ромашки! — Сережа злился, и ему было противно смотреть на эти цветы. — Какой сыр?
— А тебе не все равно? Наверно, голландский.
Ему было все равно. И он не знал, едят ли ветчину с сыром. И все-таки он сказал:
— Положи и сыр. На ветчину. Сверху.
Цветы лежали на столе. Сережа взял вазу, отнес ее к поленнице. Она высилась справа от охотничьего домика. Сережа поставил вазу на поленья. Наташа шла за ним с бутербродом в руке. Сережа взял у нее бутерброд, запустил в него зубы и откусил кусок, которого первокласснику вполне хватило бы на завтрак. Он решил, что это совсем неплохое блюдо — хлеб с маслом, ветчина и сыр. Во всяком случае, питательное.
— Подарок я тебе купил, — сказал он, прожевывая бутерброд.— На память. Часы. На шею надеваются. Подержи...
Сережа отдал Наташе бутерброд, вынул из кармана пластмассовую коробочку с прозрачной крышкой, достал из нее часы и дал их Наташе. Коробочку он снова спрятал. Наташа приложила часы к уху. Она улыбалась. Растерянно. Смущенно. Признательно.
— Спасибо. Только... я не могу... Они золотые.
— Ну... они не совсем золотые.— Сережа снова принялся за бутерброд.— Но хорошие часы. Дни показывают.
— Где ты взял деньги?
Всегда существуют вопросы, которых лучше бы не касаться. Но тот, кто их задает, как раз этого-то и не знает.
— На завтраках сэкономил. Трудовая копейка рубль бережет.
— Я серьезно.
— Заработал,— небрежно ответил Сережа и пояснил: — Я ведь ездил...
Наташа надела цепочку с часами на шею, и они поместились точно в ложбинке на груди. Сережа подумал, что на черном свитерке это выглядит очень здорово. Она поискала глазами и тут же нашла на столе полированный алюминиевый поднос, взяла его и стала рассматривать себя, как в зеркале.
— Ух, как красиво! — сказала она. — Спасибо, Сереженька.
«Сереженька!» — отметил про себя Сережа.
— На здоровье, — буркнул он.— Давай сверим время. Сколько на твоих?
Она взяла часы, посмотрела на циферблат. — Десять часов четырнадцать минут.
— И на моих десять четырнадцать.
Наташа подвигала подносом, нашла солнце и пустила Сереже в глаза зайчика. Он отвернулся.
— Знаешь... Я всю ночь думала... Если б я не уезжала, ты бы сказал мне?..
Сережа насторожился:
— Что?
— Ну, что ты... То, что ты мне сказал на переменке. Сережа подумал совсем о другом. И говорить сейчас
с ней он собирался совсем о другом.
— Я давно хотел,— сказал он не сразу,— Я тебе даже письмо написал.
— А где оно?
— Порвал.
— Жалко,— огорчилась Наташа.— Что ты там написал?
— Не помню.
— Неправда,— не согласилась Наташа.
Он хорошо помнил все, что там было написано. И не порвал он этого письма. Он спрятал его дома, на полке, за книгами. У Сережи там был тайник. Совсем такой, как в детективных романах. Сережа сам его выдолбил стамеской в доске-дюймовке и подогнал фанерку так плотно, что было совсем незаметно. Но с точки зрения Сережи, то, что было в этом письме, годилось читать, а не слушать.
— Ну,— сказал он ворчливо,— написал, что, когда ты есть на свете, мне все интересно. Интересно просыпаться, бежать в школу, делать уроки, возить картошку... Интересно смотреть на небо. Не для того, чтоб узнать, будет дождь или нет, а вообще... Написал... даже когда тебя нет рядом, я все равно разговариваю с тобой. В общем...— Он сказал то, что было важнее, чем «ты мне нравишься», «я хочу с тобой дружить», «я люблю тебя»... То, что он сам понял только теперь. То, чего не было в этом письме.— В общем... Что не могу без тебя.
— И я не могу, Сережа,— просто сказала Наташа, подошла к нему поближе, приподнялась на носки и поцеловала его в щеку, как раз в то место, где за щекой у него торчал кусок бутерброда.— Спасибо. Это не за часы. За то, что ты такой...
Она замолчала, но Сереже очень хотелось узнать, какой он. И Сережа спросил:
— Какой — такой?
Наташа улыбнулась счастливо и виновато.
— Для меня весь мир стал другим, — сказала она.— Зеленым-зеленым... Так у нас все плохо... И мне стыдно, что мне так весело... В последние дни Виктор Матвеевич почти не спал. Разговаривал мало. И вдруг спросил о тебе. Мы с ним долго говорили...
Виктор Матвеевич! С узким, словно сплющенным с боков лицом. С очками, в которых были увеличительные стекла, и от этого глаза его казались огромными и внимательными. С впалой грудью и особым, негромким, мелодичным, проникающим в самую душу голосом. Жизнь без него Сереже было так же трудно себе представить, как жизнь без Наташи. И все-таки его не стало. Только голос его, казалось Сереже, звучал до сих пор. Где-то внутри. В нем. В Сереже.
— И ему все сказала. Он спросил: «А ты знаешь за что?» Я не сумела ответить. А теперь знаю... За то, что ты такой добрый. Такой умный. Такой смелый!..
Это было чересчур!
— Наташка,— сказал Сережа потерянно.— Я... Ты всегда будешь обо мне так думать?.. А если со мной что-нибудь случится? Если я под суд попаду? Или даже в тюрьму?
— Я запеку в пирог напильник,— весело и решительно ответила Наташа.— И принесу тебе передачу. Пирог ты съешь, а напильником перепилишь решетку. Спустишься по веревочной лестнице из простыни. Внизу тебя будет ждать карета. Я — на козлах, в черной маске...