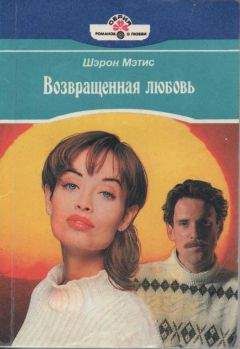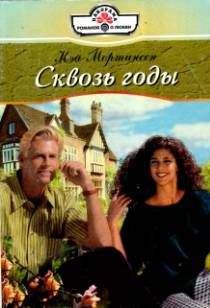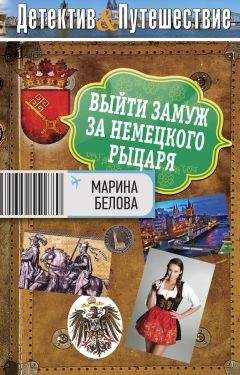Владимир Киселев - Любовь и картошка
— Знаю,— ответил председатель.— Но когда б эта энергия, да в мирных целях... Наше дело — картошку растить. Побаловались, и будет. А чтоб ты не заскучала, запишем завтра под твою персональную ответственность строительство комплекса. Все остальное — побоку. Хозяйством я сам займусь. Выпустил я его из рук. И за это еще в районе с меня строго спросят. Хорошо, если только выговором обойдется...— Он помолчал, тяжело вздохнул и, обращаясь к генералу Кузнецову, который слушал его слова с пониманием и сочувствием, продолжал: — Трудная штука власть. Говорят, сладкая. А чаще — горькая. За всех ты в ответе. И перед всеми. И есть у нее еще особая сложность — сумеешь ли ты передать ее тому, кому нужно... Я всю жизнь хотел уйти с хозяйства, заняться научной работой. И не уходил. Всегда мне что-нибудь мешало. Только это я сам себя обманывал. В самом деле я просто боялся. Боялся, что передам власть человеку, а он не сумеет воспользоваться ею правильно. Для других, а не для себя. И. сейчас, видать, не уйти мне...
Павел Михайлович вдруг улыбнулся грустно и озорно.
— Знаешь что, Серега,— продолжал он.— Кончай скорее школу, пошлем тебя в институт сельскохозяйственный. Вернешься — будешь у нас председателем. Вот тогда и хлебнешь...
Про Матвея все вдруг словно забыли, а он стоял в стороне поникший, жалкий, и на подбородке и щеках у него выделялась белая-белая, даже какая-то голубоватая щетина, уже успевшая с утра отрасти.
— Что же теперь будет, Наташка? — спросил он потерянно.— Уедете?.. Анна! Как же ты?.. Ну, я кругом виноват. А бабка?.. Одна останется. Она-то за что?..
Анна Васильевна тяжело вздохнула:
— Эй, Матвей Петрович, Матвей Петрович...
— Ведь она больна,— вырвалось у Наташи.— Мама!
— Одна она не останется,— негромко и спокойно, как о деле решенном, ответила Анна Васильевна.
Сережа вдруг почувствовал, как сердце у него забилось гулко — бум-бум-бум — и где-то у самого горла. Он с ожиданием посмотрел на Анну Васильевну, но она умолкла, а «одна она не останется» могло означать, что бабушку они заберут с собой. А потом он посмотрел на Наташу, на то, какая хорошая и благодарная улыбка скользнула по ее лицу, и подумал, что «одна она не останется» может означать, что они останутся здесь, в селе. И эту его несмелую мысль подтвердил предостерегающий голос генерала Кузнецова, который сказал только:
— Анна!..
Матвей Петрович пытался разгладить пальцами измятую сигарету.
— Спасибо, что недержишь на меня сердца,— негромко поблагодарил он Анну Васильевну.
— Да погодите вы, Матвей Петрович! — испуганно перебила его Алла Кондратьевна. — Цесарка!
Алла Кондратьевна подбежала к перегоревшему костру, за ней, припадая на ногу, Матвей Петрович. По дороге он подобрал лопату, несколькими точными, спорыми движениями выгреб из ямы уголь и вынул на лопате запеченную в глине цесарку.
— Наташа! Поднос! — распорядилась Алла Кондратьевна.
Наташа схватила полированный алюминиевый поднос, Матвей Петрович осторожно опустил на него с лопаты цесарку в обожженной глине, Алла Кондратьевна поставила поднос на землю рядом с костром.
— Где у вас топор?
Матвей Петрович подобрал свой маленький топорик и дал его Алле Кондратьевне. Одним точным ударом обуха Алла Кондратьевна разбила глиняную корку и потерянно сказала:
— Сгорела!
Расколовшаяся глина отвалилась крупными черепками, а в центре блюда осталась черная, как уголь, цесарка. Все молчали.
— Как же вы недоглядели, — укоризненно протянула Щербатиха.
Сережа виновато посмотрел на часы. Стрелки показывали двенадцать часов четырнадцать минут.
«Я приехал сюда в десять ноль пять,— подумал Сережа.— Значит, прошло всего два часа и девять минут. Так мало... А как будто целая жизнь».