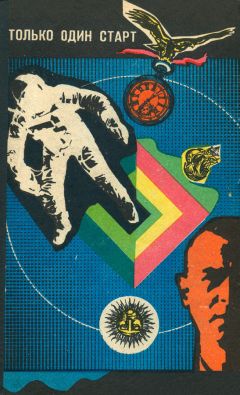Герхард Хольц-Баумерт - Автостопом на север
— Ты имеешь дело со знатоком, мышка.
На прощание девчонки обнимаются и целуются, а пан Болек даже меня обнимает. На полдистанции, как говорят боксеры, и я бы Люцию охотно бы обнял и косу бы потрогал… Подумаешь — и министры на аэродроме целуются, а ведь народ уже в годах. Наспех, кое-как прощаемся и с бабушкой Идой, ей все некогда, она уже опять куда-то унеслась.
Пан Болек довез нас до следующего города — уж от этого нам не удалось его отговорить. В пути Цыпка записала его адрес: девчонки, видите ли, жаждут переписываться… на желтой бумаге… с цветочками… Тьфу!
Городок уже спит, хотя еще совсем рано.
— Сколько лет я работал пленным у Линзинга — в городе никогда не был. Не разрешали. Красивый городок, чистый, уютный…
— Морем пахнет, — спешит добавить Цыпка, и я уже знаю, что она еще скажет. Так оно и происходит: — Как чудесно, как чудесно пахнет морем! — говорит она.
Пан Болек еще раз обнимает нас:
— Приезжайте в Польшу. Кутно тоже красивый город.
А что, недурная мысль! Только не автостопом, только без мешочка братца Петера и только без Терезы из Бурова!
Мы вскакиваем на последний автобус и не успеваем оглянуться, как пан Болек нам уже и билеты взял. Дверь захлопывается, и он еще некоторое время провожает нас на своей машине, марка «сирена», помесь «вартбурга» с «Запорожцем».
Проехали мы только две деревни, водитель зевнул и объявил: конечная остановка.
Ну, теперь осталось самый что ни на есть пустяк, раз плюнуть — и мы дома.
Правда, пахнет морем и водорослями и еще чем-то — не то акулами, не то самим водяным.
— Вперед, Цып! Последняя, финишная прямая. Лямки треклятого мешка врезаются мне в плечи, но ничего, сдюжим!
Шоссе пустынно, как лунное море. Ничего, сдюжим! Эти несколько сот метров как-нибудь оттопаем. Солнце садится. Так и кажется, что оно устало и теперь заваливается в дальние луга.
Заход солнца! А я-то думал, это только в кино показывают.
Ничего. Света нам хватит. В сумерки хорошо идти. Разогретые польским лимонадом к клубничным ликером бабушки Иды, ноги так сами вперед и несут!
— Увага![13] — вдруг вскрикивает Цыпка, когда я чуть не падаю, споткнувшись о старый сапог, кем-то здесь брошенный. — Это по-польски, дорогой Гуннар. Я уже выучила несколько слов, чтобы в Польше лучше понимать свою новую подругу Люцию.
По-польски, видите ли! Не может она: каждое новое слово — для нее событие мирового значения!
— Ньет! — каркаю я, и это тоже по-польски и по-русски, вообще по-славянски. — Понимаешь, цыплячий ты хвост, — говорю я отеческим тоном, — я ж и по-чешски, и по-польски, и по-румынски умею шпарить.
Глава XVI, или 20 часов 30 минут
Выползла совсем розовая луна.
Будто огромный детский факел или здоровенная тыква!
Тереза отстала. Скулит где-то там сзади. Я ругаюсь, но больше про себя: надо нам было остаться у бабушки Иды!
Я забрался бы на сеновал, да хоть в собачьей будке переночевал бы. А утром нас подвез бы симпатичный пан Болек. Какие ж мы дураки! Уперся, видите ли, только б с Цыпкой в одной комнате не остаться. Или: «Подумаешь, пятьдесят километров — это ж раз плюнуть!»
Отец мой, правда, больше всегда молчит, но иногда возьмет да и скажет: «Торопишься ты очень, парень. Сперва подумай, проверь, проконтролируй — не потом, а сперва!» Пружина-Крамс это называет искать оптимальный вариант. Густав, Густав, ты сперва сделал, а потом подумал. Комиссар Мегрэ, вы опять опростоволосились. Вы пошли по следу минимального подозрения. Вы чурбан!
— Почему мы не остались, Гуннар? Не могу я больше! Ноги больно… Устала я… Здесь нас никто не посадит. Видишь — никого нет.
— Хвост не поджимать, голубка ты моя! Сейчас нам «татру» подадут… А ты знаешь анекдот про почтальона и оконное стекло?
Тереза тихо хнычет. Я не хочу видеть этого, не хочу слышать, но я, Густав, знаю это, и это гонит меня вперед.
— Гуннар!
Цыпка, усталая ты мышь, сидишь и попискиваешь, да и струхнула порядком — поздно уж, темно, вот-вот тебя сова утащит…
— Бери ноги в руки — и вперед!
— У меня и руки и ноги отваливаются! — громко всхлипывая, отвечает Цыпка.
Комиссар Мегрэ, дело становится серьезным: мы в тупике, великий сыщик с треклятым мешком на горбу попал в матовую сеть. Признайтесь, Мегрэ, трубка ваша погасла, магазин вашего револьвера пуст, преступник скрылся.
— Пожалуйста, давай где-нибудь спрячемся, поспим до самого утра.
— Ты вполне интеллигентно рассуждаешь, — говорю.
Но Цыпка уже опять ворчит. Поток слез она открывает и закрывает, как водопроводный кран. Теперь она опять говорит как ни в чем не бывало:
— В следующей же деревне я пойду к участковому — он же всегда наш друг и помощник, правда.
Мы шкандыбаем дальше.
— Чудесная луна, а?
Цыпка молчит.
Да-а-а, если ей уже ничего не кажется чудесным, мы пропали. На закорки мне ее не посадить, еще две-три минуты — и я скину треклятый мешок Петера, и пусть он тут валяется и гниет! Клянусь лиловой шляпой Пружины Крамса!
Дом!
Прибавляем шагу, стараемся дышать глубже и ровней. Оказывается, это и не дом совсем. Здоровая скирда — ни дверей, ни окон.
Цыпка громко плачет, хлюпает носом.
— Мама, мамочка моя!..
— Это тебе за то, что ты проспала. Лучше бы в Крым поехала.
— Совсем не в Крым они поехали, в Варну. Сколько раз я тебе говорила!
— Разве говорила?
— Цып, спать здесь будем. Врубимся в солому, и порядок.
Цыпка сдается. Хнычет уже тише, берет меня за руку, и мы шагаем через поле к скирде.
— Это прошлогодняя солома, там мыши…
Каким образом Цыпка определила, что это прошлогодняя скирда, мне не совсем ясно, но мы все равно возьмем этот мышатник на абордаж и устроимся в нем надолго…
Никогда мне не приходилось так круто подниматься. Солома скользкая, как зеленое мыло. Но в конце концов мы все же взобрались и принимаемся строить пещеру.
— А твой мешок?
Пусть внизу лежит. С таким чудовищем за плечами да еще по мокрой от росы соломе мне сюда никогда не залезть. Свалюсь, как майский жук. Потом буду на спине валяться и дрыгать ногами. Пускай там внизу отдохнет до завтра или лучше пусть его домовой заберет.
Терезина пещера в одном метре от моей.
— Давай спать, дорогой Гуннар! Встанем на рассвете и отправимся дальше. Мне до подъема надо попасть в Альткирх. Правда утром ведь много машин? И молочные и всякие.
Хорошо в соломе! Надо мной тихо качается луна. Попискивает птичка — это она спросонок, мы ее разбудили.
— Лесной жаворонок, он еще чудесней поет, чем полевой… — объясняю я тоном знатока.
Так ведь я, того и гляди, по биологии четверку схлопочу. А эти лесные жаворонки ничего поют, не хуже нашего ансамбля в клубе.
— Воздух будто бархатный, только сырой немного…
— Ты прав, Гуннар: падает роса, земля обновляется… Между прочим, относительно бархатного воздуха — это у тебя от профессора.
Она говорит много и без остановки. Я по-отцовски молчу или покрякиваю, вроде бы соглашаясь.
— …хорошенькая собачка у него была. Постой, а как ее звали?
— Беппо.
— Знаешь, а Че… когда вы там дрались с мальчишкой…
— Может быть, этот святой или как его… совсем и не профессор? Я профессоров себе по-другому представляю. А пес у него классный! Что до твоего Че… и не дрались мы совсем, это был тренировочный бой, «спарринг» по-английски, как и такие слова, как «бокс», «нокдаун» и «нокаут». Мальчишка был ничего, но кросс у него не получался.
— У тебя еще болит? — спрашивает Цыпка.
— Это я сам виноват. Видел ведь, что он сейчас левой ударит, но почему-то правую не пустил в ход. Да и то сказать — нарушил бы правила спарринга. Он бы с копыт свалился, а это при спарринге не разрешается. Чтоб ты знала, понимаешь?
— Ты уже ночевал когда-нибудь вот так, под открытым небом, прямо в поле?
Я только кашлянул. Как отец иногда.
— Я еще никогда. Чудесно, правда? Луна. Воздух какой! А тебе тоже тепло? Хорошо, правда?
Я уже давно анорак положил под голову, а рубашку расстегнул до пупа.
— Гуннар, скажи, кабаны лазить умеют?
Комиссару Мегрэ делается немного не по себе. Разумеется, он не боится ни черта, ни дьявола… но вот кабаны…
— Спи, завтра спозаранку дальше двинем.
Цыпка молчит, а я смотрю на небо и думаю: Густав, ты же кое-что упустил — ни разу ведь не ночевал ни в лесу, ни в поле, сроду звездного неба такого не видел. Разве когда из кино выходишь, да тогда неоновая реклама вокруг.
Левый склон небосвода сделался чернильно-синим. Мерцает одна звездочка, совсем как тлеющий огонек сигареты, потом вспыхивают еще и еще… пять, шесть. Сверкают, делаются ярче, больше, висят надо мной, словно капли дождя…