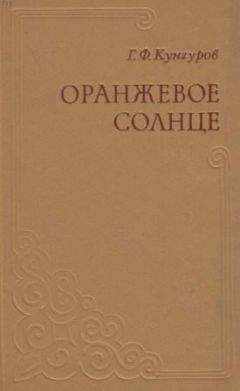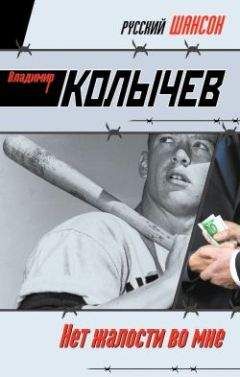Гавриил Кунгуров - Артамошка Лузин
«Эх, дядя Никанор, дядя Никанор. Поведал бы ты…»
И тут Артамошке, как наяву, послышались слова дяди Никанора: «Крещеный али некрещеный, все едино человеческая душа».
Круто повернулся Артамошка и побежал. Свернул в переулок, взглянул на дремлющего казака и скрылся под темным навесом. Чалык вскочил, сказал Артамошке по-русски:
— Друга, драсту…
Удивился Артамошка, ответил:
— Здравствуй!
Чалык повторил это слово несколько раз, но выговорить так, как Артамошка, не сумел. Артамошка не обратил на это внимания и, заикаясь, спросил:
— Звать как?
Чалык не понял и закачал головой.
— Эх, — вздохнул Артамошка, — плохо тебе некрещеному — даже имени нет… Ай-яй-яй!..
— Чалык! — тихо окликнул его Саранчо.
Чалык отозвался. Они заговорили между собой.
Несколько раз Артамошка слышал в этом разговоре слово «Чалык» и потом неожиданно для себя громко сказал:
— Чалык!
Чалык засмеялся, ответил:
— Я — Чалык! Ты? — И он тыкал пальцем в грудь Артамошку.
Артамошка захлебывался, довольный и повеселевший:
— Я — Артамон, Артамошка! Понял?
С тех пор и стал Чалык звать Артамошку по имени.
Шел Артамошка и разговаривал сам с собой:
— Чудно: не крещен, а имя есть… Ну чудно!..
У погнивших и покосившихся набок ворот стояли писец и казачий старшина. Артамошка услышал:
— К полдню завтра.
— Завтра?
— Как отслужит поп молебен, то и в дорогу.
— Дальний путь!
— Чай, до Москвы, что до неба, далеко…
— Десять казаков велено отрядить.
— Оно и правильно. Убежать могут, одно слово — лесные.
Артамошка понял, затревожился.
Наутро он узнал, что настало время отправлять пленников в Москву.
Утром служили молебен. Поп читал подорожную.
Перед самой отправкой в приказную избу вбежал взлохмаченный лекарь:
— Пленник помрет! Нога, как бревно, вздулась.
— Как? — прошипел правитель. — А ты ж, дурак, лечил!
— Не велено было!
— Кем не велено?
— Ты сам, батюшка, не велел, молвил: не сдохнет! Ан и приключилось!
— Лечи! — приказал правитель.
Отъезд отложили.
Снова Чалык и Артамошка стали встречаться. Целые дни сидел Чалык, терпеливо ждал Артамошку. И как только между старой рухлядью и частоколом мелькала знакомая рваная шапка-ушанка, Чалык скалил крепкие зубы и вскакивал. Подолгу сидели друзья. Чалык, с трудом выговаривая русские слова, рассказывал Артамошке про тайгу, про родное стойбище. А как начнет говорить про птиц да про зверей, про охоту на них, то вскружится голова у Артамошки, и поплывут перед его глазами темные леса, высокие горы, бурливые реки, будто он и впрямь в тайге.
Опостылело Артамошке все: и двор, и люди, и даже собаки воеводские; гонял он собак камнями, чтоб перед ним хвостами не юлили. Плохо стал исполнять поручения Артамошка. И чем больше его наказывали, тем озорнее он становился. Тянуло его в тайгу, в дремучие леса. Никому не давал проходу: кого щипнет, кого ногой толкнет, кого обзовет обидным словом.
Однажды шел воеводский поп; поклонились ему с почтением казаки, расступились, дали дорогу. Артамошка вылетел, отбил стоптанными каблуками дробь, попа обидел.
— Озорник! — схватил его за волосы казак Степан Долин.
— За вихры его, озорника! За вихры! — закричали со всех сторон.
— Богохул! — прошипел поп.
Артамошка едва вывернулся и убежал.
Напрасно каждый вечер Чалык смотрел на частокол: шапка-ушанка не показывалась, третий день не приходил Артамошка. Чалык всматривался в темноту, ловил каждый шорох. Лишь на четвертый день, когда стемнело, услышал он чьи-то осторожные шаги. Послышался приглушенный шепот:
— Артамошки нет! Поклоны в церкви отбивает!
Это сказал Данилка и тут же нырнул в темноту, скрылся.
Чалык понял только одно — Артамошки нет. Чалык не спал ночи. Высунувшись из-под старых шкур, он всматривался в звездное небо и думал: «Почему так: парнишка — лючи, а сердце доброе?» Вспоминалась взлохмаченная русая голова Артамошки, добрые синие глаза. Чалык кутался в шкуры и вновь думал, отгоняя от себя сон.
Тяжело стонал Саранчо. Вздрагивала во сне Талачи.
— Славный Саранчо, не спишь? — окликнул Чалык его.
— Нет. Не могу уснуть.
Чалык вздохнул и спросил о том, что тревожило его:
— Славный Саранчо, скажи, почему парнишка — лючи, а сердце доброе?
— У лючей сердца нет — у них камень! — ответил Саранчо и застонал от боли.
Чалык умолк. Саранчо ругался:
— Пусть всесильный хозяин тайги пронзит лючей отравленной стрелой!.. Пусть дух огня сожжет их чумы!..
— Славный Саранчо, парнишка-лючи нам худое не делал. Ты сам ел еду, принесенную им. А сейчас лючи спрятали его от нас. Они убьют его.
— Убьют? — удивился Саранчо.
— Это не злой лючи, это добрый, — стонал Чалык.
— Я стар, — ответил Саранчо, — я много видел. Всегда бойся лючей вот мое слово!
Оба задумались. Саранчо взял за руку Чалыка.
— Самые злые лючи те, у которых красные бороды и огненный крест на груди. Их особенно бойся!
— Парнишка — не злой лючи, — опять прошептал с обидой Чалык.
Саранчо озлился:
— Ты молод и забыл, что волчонок не страшен, пока он не стал взрослым волком! Волк не станет мышью, лиса не поплывет по реке щукой. Молодой лючи не вырастет эвенком!
Он умолк и больше не сказал ни слова.
Прошло несколько дней. Артамошка не приходил. Чалык ловил глухие шорохи, всматривался в темноту, но, кроме легкого ветра, сонливого лая собак да ленивой поступи караульного казака, ничего не слышал.
Артамошку жестоко наказал воеводский поп. Его увели в церковь и сдали строгой монашке. Монашка поставила Артамошку на колени перед иконой и велела бить поклоны. Артамошка торопливо взмахивал рукой, крестился и повторял молитву. Думал он о другом, поэтому путал слова, заикался — и за каждую такую ошибку получал от монашки щипок.
Пятый день Артамошка постился: ел кислую капусту, запивая водой. Пятый день отбивал старательно поклоны и ничего обидного не сказал ни попу, ни монашке.
И поп и монашка остались довольны раскаявшимся грешником. Монахиня даже прослезилась, поцеловала его в лоб. Артамошка подумал: «Ведьма, всего исщипала, а еще лоб лижет!» Но стерпел и не вымолвил ни слова.
На вечернюю молитву пришел поп. Растерянно размахивая широкими рукавами своей черной рясы, он тряс бородой и, наклонившись к самому уху монахини, что-то шептал. Время от времени он метал на Артамошку косые, недовольные взгляды.
«Обо мне», — подумал Артамошка и стал вслушиваться. Поп горячился, багровел и орал в ухо перепуганной монахине:
— К пленным тунгусишкам бегал, к царским пленникам; душу христианскую осквернил, жалеючи их; слезно выл и всячески поносил воеводу, и казаков, и меня. — Поп задыхался от злобы. — Вчера доподлинно мною проведано: малец воровского рода, отец его в Работных рядах проживал, кузнечным да плотничьим ремеслом кормился. Не худо жил, но все бросил, в разбой пустился, в леса сбежал. Вор!
— Врешь! — вскочил Артамошка.
— На колени! — взвизгнула монашка.
— В железы его надобно забить, — затрясся поп, — в железы! Разбойное отродье! Окаянная душа. Тьфу! Тьфу! Прости господи!
Решено было выгнать с воеводского двора Артамошку-озорника и отдать в пригородный Знаменский монастырь в послушники.
Забеспокоился Артамошка лежа в темном углу на прогнившей соломе. Вспомнил отца и дядю Никанора. И казалось Артамошке: вот сидит отец за столом, положил голову на кулаки, и поет свою любимую песенку:
Пусть леса дремучие шумят,
В синем небе лебеди летят.
Там, где ветры плачут и поют,
Я найду и долюшку свою.
Скрипнула дверь, завизжал ключ в замке. Артамошка бросился к оконцу, увидел: монахиня шла, как утка, вразвалку, по грязной площадке воеводского двора. Тут и родилось в голове у Артамошки горячее слово: воля! Будто упало это слово с бревенчатого потолка. Артамошка даже оглянулся по сторонам. Темнело. В углу красной бусинкой теплилась лампада.
Артамошка с силой толкнул слюдяное оконце и высунул голову. Кругом тишина, слышен лишь отрывистый лай собак да далекие пьяные голоса. Он выпрыгнул в оконце и, прижимаясь к бревенчатой стене старой церкви, мелькнул черной тенью. Умирала вечерняя заря, на востоке мерцали звезды, луна заливала землю серебристым светом. Артамошка потянул в себя воздух, сладко зевнул, огляделся и промелькнул мимо приказной избы, ползком пролез между бревен, обошел караульного казака. В груди кольнуло: «Може, его уже и нет, на Москву отправили?»
Друзья встретились молча. С трудом рассказал Артамошка о своем горе. Чалык морщил лоб, моргал глазами, но понял только: у друга очень большое горе. Внезапно Чалык выпрямился, припал к уху Артамошки: