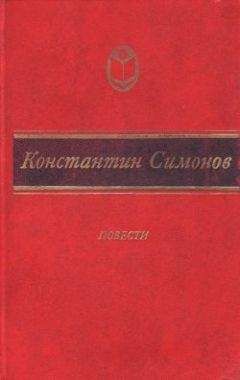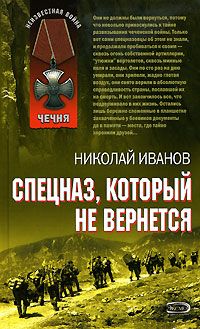Эрнест Ялугин - Мстиславцев посох
Улочка Слободы была вся в колдобинах, хлюпали под ногами помои, которые выплескивали сюда хозяйки в субботу. Несколько раз Петрок в темноте споткнулся, едва не выронил тяжелые книги. В грачиных гнездах запутался гнутый серебряный волос молодика.
ДОПРОС МОСКОВИТА
Тихон очнулся в покоях пана Яна. Он стучал зубами от озноба: еще во дворе замка его окатили водой из колодезя. Саднил левый висок. Тихон ощупал его, посмотрел на ладонь ― она была вся в крови.
Пан Ян милостиво кивнул Амельке, тот радостно осклабился, раскрыл широкий ― до прижатых к петушиному черепу ушек ― тонкогубый рот.
— От лайдаки! ― крикнул пан Ян.― Допомогите пану подняться.
Двое гайдуков кинулись исполнять приказ, под руки подняли Тихона с пола, одернули одежду. Тихон пошатнулся. К нему подскочил соглядатай, поддержал за локоть. Этого серого человечка Тихон от себя оттолкнул.
― Чем не угодил я папу старосте, что меня так?
Пан Ян, позванивая маленькими шпорами, прошел к креслу, сел.
― Он не знает! ― укоризненно покачал он головой.― В город принес московитскую смуту и не знает.
— Навет на меня, пан староста, побожусь, навет. Мирный человек я. В высокие кпяжецкие дела сроду не встревал.
— Ай-яй-яй! С тобой хотят полюбовно, а ты упорствуешь, ложь именем бога прикрываешь.
— Ошиблись люди твои, ясновельможный,― Тихон, морщась, потрогал нывший висок.
Нетерпеливо топнул ногой пан Ян, по-комариному зазвенела серебряная шпора.
— С причетником Ильинской церкви сговаривался? ― У старосты даже усы нацелились беспощадными пиками.― С попом той же церкви Евтихием таксамо. В корчме посполитым тайный ярлык московского князя тобою читан? Где ярлык? ― не давал Тихону слова молвить староста, распалялся, и гайдуки, зная норов пана Яна, пятились к двери, где уже притулился соглядатай. Тонко взлаял лежавший под столом лисенок, тоже отбежал подальше от ног хозяина.
— Не хочешь добром, схизматик, мы иной способ найдем развязать твой ядовитый язык,― холеная бородка пана старосты уже вся в пузырьках слюны.― Привести сюда дьячка!
Гайдуки скрылись за дверью. Причетника Никодима ввели в наручных кандалах, измордованного. Никодим бухнулся перед польским наместником на колени.
— Не губи, ваша мость!
— Говори,― приказал староста.
Причетник повернул лицо к Тихону, глянул на него сквозь нависшие па глаза грязные пасмы волос.
— Погубил ты меня, Тихон,― по втянутым щекам причетника покатились мутные слезы.
— Не повинен сей человек, ясновельможный,― твердо сказал Тихон.― Не там ищешь, ваша мость. Гляди, как бы тем часом с другого боку не запылало.
— Батогов схизматику,― слабо махнул длиннопалой рукой староста.
Тихон глянул на ясновельможного с ненавистью.
― Отольются тебе, ваша мость, слезы невинных.
Пан староста вскочил.
― В кайданы! В склеп, в подземелье, в ошейник железный да побочь с медведем поставить! ― староста рванул на себе кружевной ворот.― Через три дня не заговоришь, повешу на крюк, быдло!
Сорвали с Тихона кафтан, до хруста закрутили назад руки, поволокли под низкие своды, затем по крутым ступеням вниз, в темень, так, что одному из гайдуков пришлось запалить факел и идти впереди, светить. Пахло сырой каменной плесенью и мышами.
Когда увели московита, опустился пан Ян в кресло, схватился за грудь ― трепыхалось там, словно та куропатка, что жрал лис, и, чтоб успокоиться, пил малыми глотками мальвазию, принесенную служкой. Пил, поглядывал в окно, где за Вихрой, над житневыми полями, медленными кругами ходил ястреб. В той стороне, за сосновой чащей, починалась Московия. Оттуда, с восхода, в начале каждого лета наваливались грозы с малым дождем, но сильными, сухими громами, оттуда посполитые восточного окоема Белой Руси ждут себе избавления, ибо крепнет Московия, принуждая короля Польши и великого князя Литвы держать близ границы большие отряды жолнеров.
Вздохнул пан Ян ― нелегко быть наместником ясновельможного королевича в таком городе, как Мстиславль, где чернь спит и во сне видит возвращение московитов. Еженощно приходится высылать усиленные караулы, крепко запирать ворота замка, ждать смуты.
...Ступени кончились, под ногами ощутил Тихон ровный пол. От него поднималось зловоние, сапоги скользили, разъезжались. Чуть посветлело: высоко вверху сквозь узкие, забранные железной решеткой щели проглядывало небо. Однако тюремщики не остановились, за поворотом открылись еще одни ступени вниз. Когда они кончились, Тихон увидел узкий проход, слабо освещенный сальной плошкой, которая стояла в неглубокой нише. По правую от прохода руку был ряд окованных ржавым железом дверей, в круглые оконца глядели из темноты чьи-то молчаливые глаза. Рыкнул зверь. Тихона подтолкнули к отворенной двери ― прямо перед ним стоял, моргая маленькими глазками, рослый медведь. Стражник с факелом засмеялся.
— Вот тебе, мишка, постоялец, лобызайся.
Медведь натянул цепь, раскрыл красную смрадную пасть, завыл, мотая тяжелой головой.
— Геть! ― стражник с факелом попятился. Другой стражник подтянул к себе пикой лежавшую невдалеке от медведя цепь с разомкнутым железным кругом ошейника. Тихону развязали руки, он пошевелил онемевшими пальцами.
— Ступай, ступай! ― стражник защелкнул на шее Тихона холодный ошейник, толкнул в спину, к медведю. Медведь поднял лапы, снова рванул цепь, из стены посыпалась каменная крошка.
— Гляди, скоро вырвет цепь! ― сказал стражник с факелом старшему.
— Одним схизматиком будет меньше,― ответил тот, захлопывая дверь склепа. Стражники загоготали.
Тихон остался один на один с ошалевшим зверем. Теперь, если бы даже удалось сломать ошейник, из склепа не уйти ― зверь не пустит. Все ближе зеленые огоньки злых медвежьих глаз. Тихон отступил в самый угол, наткнулся на охапку прелой соломы, сел. Хотелось лечь, вытянуть ноги, да нельзя было: всего в шаге от него стоял на дыбках медведь, сопел зло. Тихону стало жутко: а вдруг и впрямь вырвет из стены цепь, сорвется? Задавит ― никто не услышит. Тихон даже к окошку подойти не мог. Он сел, обхватил колени руками.
Когда медведь утих, стало слышно, как где-то лопотали мягкими крыльями потревоженные летучие мыши, словно души тех несчастных, кто находил тут свою погибель еще со времен князей Мстиславских.
ЕПИТИМЬЯ
Послушники по одному подходили исповедоваться к отцу игумену. Получив отпущение своих ребячьих грехов и краткое игуменское назидание, веселые, выбегали на церковный двор. Петрок исповедовался шестым.
— Грешен ли, дитя мое? ― привычно спросил игумен, кладя бледную руку на склоненную голову отрока.
— Так, батюшка, грешен,― Петрок глядел в угол алтаря, где проступила зеленая плесень.― Пожелал зла своему ближнему и сокрыл то на прежней исповеди.
— Кому же, дитя мое? ― Теперь отец игумен внимательно поглядел на коленопреклоненного отрока, приметил его угловатые еще, острые плечи под свиткой серого домотканого сукна.
— Сыну Апанасову, батюшка.
— Товарищу своему, с коим труды учения делишь, грамоту познаешь? Негоже так. Грех твой велик, дитя мое.
— Ведаю, батюшка,― крутнул головой Петрок.― Но только не товарищ он мне и неровня мы.
— Пред богом все равны, и в монастыре таксамо.
— Ему и тут добрей,― отвечал Петрок.― И кормят слаще, и спит в особой келье на перине...
— Господь наш терпел без роптания,― толкнул игумен книзу упрямую голову отрока.― Грех велик на душе твоей, Петрок. Однако чистосердечен ли ты на исповеди, не утаил ли чего?
— Не утаил,― снизу вверх взглянул на игумена Петрок.
Игумен затряс бородой, зашуршал ризой.
— А лик непотребный не ты ли тщился изобразить, в келье таяся?
Петрок похолодел. А он-то искал, куда поделся рисунок. Думал, товарищи для потехи запрятали либо Сымон по злобе. Ан то монахи-соглядатаи рылись в торбе его по указке игумена! Обидно стало, что сгинул труд стольких вечеров. И ладно выходило же ― словно живой, смотрел большеглазый смешливый девичий лик, сотворенный его кистью.
— То матерь божья, батюшка,― ответил твердо.
— Лик девки непотребной у тебя святая матерь Христова, богохульник? ― зашипел гусем рассерженным отец игумен.― Да за такие речи, голоштанник, в монастырском склепе сгноить мало! Одно снисхождение тебе бысть может ― неразумен еще, аки телок. Молись и покайся, Петрок. Отныне на всякий малюнок станешь соизволения спрашивать либо у меня, либо у отца дьякона. Накладываю на тебя епитимью, и наказание такое будет: три дня станешь поститься и молитвы коленопреклонно творить в келье. Затем определят тебе работы.
Игумен качнул высоким клобуком, сунул в губы Петроку руку. Петрок приложился к ней, стоя на коленях. Рука сильно, до кружения в голове, пахла ладаном и сандалом.