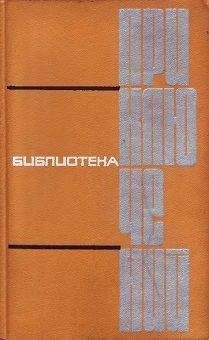Януш Домагалик - Конец каникул
Дорога к станции была в гору, но мы шли быстро. «Если б все тяжелое было таким же тяжелым, как этот чемодан, — думал я, — тогда по любому склону я взбежал бы с песней! Неужели им непонятно, что слишком много взвалили они на мои плечи? Что я им всем сделал?»
Возле рыночной площади, рядом с книжным магазином, нам встретился Збышек Малецкий. Збышек был на велосипеде. Он поздоровался с отцом и посмотрел на меня, словно хотел о чем-то спросить или ожидал, что я с ним заговорю. Но когда я прошел мимо без слов, с равнодушным видом, Збышек вскочил на велосипед и уехал.
Вот мы и на станции. На перроне толпятся люди. Мы остановились под часами, отец отдал мне билет, дедушка стоял рядом, волнуясь и перекладывая тросточку из одной руки в другую. То и дело он давал мне какой-нибудь чудной совет, а я притворялся, что слушаю его. Потому что чувствовал — замолкни дедушка, и мы все будем молчать. Так же, как по дороге на станцию.
— В поезде не пей лимонаду, он, конечно, крашеный. Смотри в оба за чемоданом — уведут. Не спи. Или спи, но чемодан держи тогда под ногами…
— Когда держать под ногами?
— Когда будешь спать. Но лучше все-таки не спи, не то проспишь станцию.
— Это ж конечная станция…
— Так только говорится, всегда могут что-нибудь изменить, и поезд пойдет дальше. Ага! И не разрешай открывать окна, иначе будет сквозняк. Скажи людям, что заело. Но лучше всего не разговаривай совсем, потому что неизвестно, что за люди. Если будут о чем спрашивать, буркни в ответ, что у тебя горло болит.
Отец рассердился:
— Дедушка, что ты городишь? Глупости какие-то…
— Глупости? Пусть будет глупости. Только, боже сохрани, не пей холодной воды. А теперь пошли туда, к ларьку… Напьемся пива.
— Я не люблю пива.
— Ну, тогда лимонаду!
Отец пожал плечами и остался у чемодана. А мы направились к ларьку. Там дедушка тихо сказал:
— Не в лимонаде дело, все равно крашеный, покупать не стану. Юрек… тут немного денег… вот! Только спрячь хорошенько. Может, в ботинок, а?
— Триста злотых! Дедушка, да ведь это…
— Тихо! Ну!.. Ни слова. Не серди меня!
Ни с того ни с сего дед принялся кричать и так замахал тросточкой, что продавщица в киоске забеспокоилась:
— Что случилось, папаша? Если что не так — вон стоит милиционер…
— Пусть присядет, не то жилы на ногах вздуются! — ответил дедушка. — Две большие светлого!
Он кивнул милиционеру и, когда тот подошел, внимательно на него посмотрел:
— Клеофаса Матеяка сын, а? С Замурной улицы?
— Верно, дед, — улыбнулся милиционер.
— Ну так берись, человек, за другую кружку, стоишь, как на свадьбе, а с кем мне выпить?
По радио объявили поезд на Варшаву. Меня охватило беспокойство, только сейчас я заволновался по-настоящему.
Подбежал к отцу. Эту фразу я давно уже приготовил:
— Слушай, голубей я выпустил со злости… я не хотел…
— Каких голубей?
— Моих… наших. Я выгнал их… всех…
— Не стоит сейчас об этом, это не самое важное… Юрек, нет уже времени. Бери чемодан, живо!
Поезд остановился. Щелкая, открывались двери вагонов. На платформе поднялась суматоха. Все бежали в разные стороны, заглядывали в окна в поисках купе посвободней. Мне ничего так и не удалось сказать, слишком поздно… Только сейчас я понял: сказать надо многое! Так быстро пришел поезд…
Я не слышал, что говорил отец, дедушка. Милиционер дал дедушке подержать свою кружку с пивом и помог мне внести чемодан, я пробивался через коридор и, заглядывая в купе, спрашивал, нет ли свободного места, но мне не отвечали; кто-то с кем-то громко прощался; женщина рвала что есть силы кладь, застрявшую в дверях… Каждый совершал тысячу мелких ненужных движений, суетился, нервничал. Какой-то человек назойливо и громко кричал в окошко:
— Алло, бутылку минеральной сюда! Бутылку минеральной! Алло, бутылку минеральной…
Я силой пробился к окну, открыл его и высунулся как можно дальше. Поцеловал дедушку, который обе кружки с пивом отдал теперь милиционеру. Схватил отца за руку, горло у меня свело судорогой, я не мог произнести ни слова…
Крик начальника поезда перекрыл голос, требовавший минеральной воды. Люди немного утихли. Издалека долетело протяжное:
— Готоооооов!
— Папа! Почему вы меня отсылаете? Почему ты согласился, чтоб я ехал?
Поезд тронулся. На нашей станции он стоял не больше минуты. Я все еще держал отца за руку, он шел теперь рядом с вагоном. Мне казалось, что и он не мог в эту минуту найти те слова, которые собирался сказать раньше.
— Отсылаете? Неправда!
Пришлось разжать руки. Поезд прибавил ходу, отец стал отставать. Крикнул:
— Юрек, да ведь ты сам хотел!..
Я отодвинулся в глубь вагона. Отец сделал еще несколько шагов и остановился: кончился перрон. Он вытянул руку, однако прощального взмаха не последовало, казалось, прерванный на полуслове, он выскажется сейчас до конца, но поскольку высказаться возможности не было, терял смысл и этот жест прощания.
Один из пассажиров заговорил со мной, но я так и не понял, чего ему нужно. Я не видел станции, которую мы проезжали, не видел на перроне никого и ничего. Все отдалилось, и только фигура отца, замершего с поднятой, как бы вытянутой рукой, не уменьшалась, а росла, приближалась, заслоняя собой все, была рядом, у самого окна…
Станция исчезла из глаз, колеса застучали по стрелкам, поезд мчался теперь в пологой выемке и, огибая город, описывал широкую дугу. Видны были еще ближние дома, а потом уже только башни костела. Я знал, скоро мы проскочим мост, тогда появится шахта и весь Божехов будет как на ладони, будто разложенный на огромной миске. Я не отходил от окна.
Сейчас машинисту придется сбавить ход, и я увижу, наверно, кусочек пруда. Мы замечали, купаясь, что поезда в этом месте сбавляют ход, может, поворот слишком крутой. Вот уже тормозит…
Солнце бьет в глаза, оно над самым городом, больно смотреть. И вот открывается Божехов: вдали, будто уменьшенные, проходят панорамой терриконы, вытяжные стволы шахт, деревья, заслоняющие крыши городка, склоны меловых холмов… Уже видна дорога к развалинам замка. Сейчас она пересечется с железной дорогой. Шлагбаум будет опущен, возле будки уже наверняка стоит сторож с флажком… Столько раз я это видел, но чаще с другой стороны, когда приходилось пережидать поезд. А теперь я в вагоне. Может, на переезде дежурит сегодня старик Дерда? Тогда я крикну ему: «До свиданья, пан Дерда!» А он, наверное, не услышит. Только до свиданья ли?..
Поезд все еще сбавляет ход. Божехов уже исчез, его заслонили деревья. Только трубы шахты торчат вдалеке. Раз, два, три, четыре… Зачем считать? Ведь я хорошо знаю, что их четыре. Переезд!
Впиваюсь руками в окно. Нет! Это не обман зрения! Три велосипеда лежат на обочине! А за шлагбаумом — они. Махают руками. Эльжбета! Толстый, Збышек… Хочу что-нибудь крикнуть, но не знаю что. Хотя б одно слово, одно… А те кричат, но поезд заглушает голоса. Переезд остается позади. Эльжбета срывает с себя косынку, размахивает над головой. Хвост вагонов на повороте заслоняет собой все, выгибается позади…
Кто-то из пассажиров отодвигает меня, закрывает со злостью окно. Пусть закрывает. Я сажусь на скамейку — все равно больше ничего не увидишь.
Значит, приехали на переезд те трое. Наверное, Збышек сказал, он видел меня с чемоданом. Хороший парень Проблема!
Через четыре часа на другой станции меня будет встречать мама. Это будет конечная станция. Я выйду и скажу: «Вот и я! Я хотел к тебе приехать». Только правда ли это? В самом ли деле хотел?..
Глава 22
Все угомонились, каждый как-то устроился, рассмотрел соседей, убедился, что места в купе достаточно, и занялся своим несложным делом: кто принялся за бутерброды с колбасой, кто заснул, кто взялся за газету. Итак, тишина. До следующей станции, где снова один выйдет, другой войдет и опять начнется неразбериха. Я отправился в коридор и открыл окно.
Еще час шел поезд по угольному бассейну, словно жаль ему было расставаться с нашими местами. Мы петляли между вытяжными трубами и терриконами, которых тут все же меньше, чем кажется приезжему, и вместе с тем больше; поезд пролетал у раскаленного жерла огромных печей металлургического комбината имени Дзержинского, а минуту спустя — будто ради потехи — пропал в сосновом бору, где на секунду возникала табличка с самым забавным в этой округе названием станции: «Синичка»; хотя еще смешней мог показаться Голоног, оставшийся уже позади… для меня, впрочем, в этом названии никогда ничего смешного не было.
Каждая из этих станций, увиденных невзначай, промелькнувших на мгновение и вроде бы уже ненужных и исчезнувших за последним вагоном поезда, кое-что значила все же для меня. Зомбковицы — сюда мы приезжали на озеро Погориа, здесь же были со школьной экскурсией на заводе оконного стекла; Лазы — здесь у Толстого живет тетка, а у тетки есть лошадь, на которой мы учились когда-то ездить верхом: Мышков — отсюда родом Форнальчик… Вроде бы и не так важно, но когда проходили велогонки Мира, для всех нас это имело большое значение!