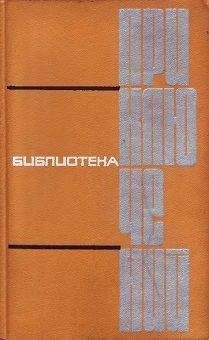Януш Домагалик - Конец каникул
И опять голос из окна, нетерпеливый:
— Эля! Что ты там делаешь?
Она не ответила. Шепнула мне:
— В самом деле, не знаю. Мне хочется, чтоб ты был там… Ну, мне пора! Знаешь, что я думаю? Жаль что мы не старше. На несколько лет… Я помогла бы тебе тогда. А теперь не знаю, что и сказать. Не расстраивайся, Юрек… Мы будем близко. Знаешь, почему я была такая грустная, когда мы вернулись из замка, после обеда? Ты спрашивал об этом в саду, но мне не хотелось тогда говорить. Я получила письмо, что через пять дней надо ехать в Варшаву. Я написала маме, чтоб она разрешила мне остаться здесь до второго сентября. Теперь это не имеет значения! Можно ехать хоть сейчас…
— Эльжбета!
— Сейчас, тетя!
Она улыбнулась мне на прощание, и вот я уже один, Только теперь я понял, почему рассказал ей все это. Если б не она, некому было б рассказать. Наверно, поэтому.
Как все сложится там, куда еду? Мне было не представить себе этого. Как будет в Варшаве? Ну конечно, улицы, дома… Но, думая о тех улицах и тех домах, я представлял себе их такими же как и наши, в Божехове, только гораздо больше. Помножить, скажем, Божехов на десять, может, на двадцать и поставить посредине Дворец культуры, который я знал по кино, по фотографиям. Только шахты не будет… И пруда. И нашего сада. И моста через Брыницу. И нашего дома… Так что ж, тогда там, собственно, будет?
Я брел по улице и хоть было уже темно, смотрел по сторонам, будто я приезжий, будто в первый раз вижу все это. А может, и в последний. Я знал, предчувствовал весь день, что сегодня кончится что-то, но не думал, что это «что-то» будет заключать в себе так много…
Я долго не мог заснуть, а утром проснулся поздно, на кухне я застал отца — он сидел у стола и глядел в окно. Может, он вообще не ложился? На подоконнике лежали мои рубашки, платки, свитер — то, что надо будет положить в чемодан. На спинке стула висели брюки и пиджак. Мой выходной костюм, только что выглаженным.
Я позавтракал и ушел. Не нашлось у меня такого слова, которое хотелось бы сказать отцу. Толстого не было дома, и его мать сообщила, что он пошел, наверное, с ребятами на пруд.
— В такую рань? — подивился я. — С какими ребятами? С Зенеком? С кем еще?
Но мать Толстого не знала, с кем еще, и добавила, что не уверена насчет пруда, просто ей так кажется. Куда ж еще могли они пойти?
Вот именно, куда ж еще? В сто разных мест, мне было лучше знать это. Только взрослым кажется, что в Божехове некуда податься. Мама тоже часто говорила: «В жизни еще не видала такой дыры, как Божехов. Куда тут идти? Три шага в одну сторону — шахта, три в другую — костел. Это ужасно — прожить тут столько лет!» Почему ужасно? Да и сколько она тут прожила?.. Не знаю.
Да и что я знаку о них вообще? О собственном отце и о матери. Если хорошенько подумать, так я почти ничего о них не знаю. Да и откуда мне знать? Сами не говорят. А спрашивать? Все равно не скажут. Почему же так получается? Не хотят о себе говорить или нечего сказать? Вот если б можно было просветить насквозь таким аппаратиком кого хочешь и чтоб сразу понять: каким был раньше, что думает теперь? Пригодится ли такое изобретение?
Только бабку не надо просвечивать. Она сама скажет все, что думает, сразу и во всеуслышание. Но и это не больно-то хорошо. А дедушка — тот сам по себе такой аппарат. Он про каждого в нашем городе что-то знает, всех помнит. А может, не всех. Знает ли он, скажем, меня? Навряд ли. Про меня никто ничего не знает. Может, только Толстый да Зенек, ну… и Эльжбета, теперь она знает больше всех. Но даже больше всех — это сущая кроха. А отец? Мама? Да собственно говоря, сколько лет мама тут прожила? Во всяком случае гораздо меньше, чем дедушка. А почему дедушка никогда не говорит, что Божехов — дыра?
По улице медленной вереницей тащились подводы с углем, иногда проносилась машина. Я шел мимо подвод. Грохоченый уголь, кулачковый первый, орешек, кулачковый второй, орешек с мелом, кусковой… Я б и в темноте не перепутал, А мама говорила, что когда-то раньше, когда она жила еще в Варшаве, она не отличала один сорт угля от другого, все черное; это был для нее просто уголь. Забавно…
— Збышек пошел, кажется, на рыбалку! — сообщила мне Малецкая в окно, когда я свистнул особенным образом — наш старый сигнал.
Меня ничуть не интересовало, куда пошел Збышек, мне надо было вызвать Эльжбету, чтоб с ней попрощаться. Но она не появилась в окошке, наверно, ее не было дома. На всякий случай я свистнул еще раз, погромче, вроде бы голубям, и немного подождал.
Куда они все подевались? Как раз сегодня, когда до отъезда остается каких-то два часа. Я рассердился на них. Я был на них в обиде. На всех. Вроде бы и понимал, что это случайность, что они где-то рядом, может, сами ищут меня. Но главное в том, что они знать не знали о моем сегодняшнем отъезде. Даже Эльжбете я не сказал, что это уже сегодня, не успел сказать. Да, я рассердился. Они обязаны со мной попрощаться, и все тут. Да и Эльжбета могла бы догадаться, или спросить, или… Ну мало ли что…
Ладно. Не буду ни с кем прощаться, сами виноваты, что их нету. Хотя, собственно… Будь они дома, что из того? Что я скажу Зенеку или Толстому? «Будь здоров, Толстый!» А он мне: «Будь здоров, Юрек!» Вот и все.
На шахте завыл гудок. Я прибавил шагу, пора возвращаться. И вдруг ужасно заторопился, будто мой поезд стоит уже у перрона. Запыхавшись, влетел в квартиру.
— Который час? Пора?
Отец отложил газету и посмотрел на часы:
— Пожалуй, да. Можно и отправляться. Заглянем еще к бабушке и дедушке. Я думаю, ты хочешь с ними попрощаться?
— Конечно!
— А с мальчиками? Был тут один, я даже его не знаю. Спрашивал тебя…
— Наверно, Адам! Не страшно… Я напишу ему письмо! Я взял чемодан, и мы пошли.
Глава 21
Давно я уже не видел бабку такой злой, как сегодня. Она подгоняла меня, пока я обедал, покрикивала на деда, только на отца смотрела, как на пустое место, точно его не было. Отец ел, не проронив в спешке ни слова, а дедушка облекался меж тем в свой выходной костюм и все время не мог чего-нибудь найти.
— Ну чего ты крутишься? — спрашивала бабка. — Чего тебе надо?
— Ботинки.
— Потрудился б, нагнул голову, так увидел бы, что они под кроватью.
— Нету их там, — бурчал дедушка. — Нет… Есть. Мать, нет рожка для ботинок.
— Да ведь на стуле лежит!
— А, верно, — соглашался дедушка. — Видишь, Юрек, какой у бабушки зоркий глаз, а? И она вовсе не такой уж зверь, хоть на первый взгляд — сущий царь Николай II. Только без бороды.
Я улыбнулся.
— А тебе весело? Рад, что едешь? — заговорила бабушка с ехидцей. — Вижу, что доволен. В Варшаву! Только тебя там не видали! Поглядите на него, сияет… В кого ты, собственно, уродился, а?
— В меня! — заявил дедушка. Я знал, что он отпускает спои шуточки, чтобы предупредить скандал, старается спасти положение. — В меня он уродился. И в тебя, старуха, тоже. Красотой!
Но бабушке было не до шуток. Она громко вздохнула:
— Эх вы, люди! Ты никогда не принимаешь ничего близко к сердцу, старая калоша, одни шутки в голове. Зато сын у тебя — великий умник, всех перехитрил. Да… А теперь еще ребенка испортят…
Она принялась плакать. Старая простая женщина, она вытирала нос о передник, плакала громко, и это было невыносимо. Отец резко встал, отодвинул тарелку и вышел из дому. А дедушка справился наконец с ботинками, напялил пиджак и заявил серьезно:
— Поцелуй бабушку, Юрек. И обещай, что сразу по приезде ей напишешь. Ну, прощайтесь. Перестань, бабка, реветь. Я тебе говорю, он парень с головой, он свое место найдет… Ну, пора!
Бабушка вышла с нами за порог. Я повернулся, помахал ей. Но она не ответила мне. Она стояла на крыльце не шевелясь и смотрела на меня, как мне показалось, каким-то странным взглядом. Словно я был чужой. Я поставил чемодан на тротуар и подбежал к крыльцу. Схватил ее за руку.
— Бабушка, что мне делать?
Всего секунду назад я не знал, о чем спрошу. Я не хотел ни о чем спрашивать, хотел только поцеловать ей руку… и чтоб не смотрела на меня так. Но когда подбежал, я увидел у нее на лице то, чего раньше никогда не видел, а может, просто не замечал. Словно досаду на меня, неприязнь… Значит, и я для нее чем-то виноват? Я… А что такое я сделал? Ведь я всего-навсего уезжаю…
— Скажи, бабушка, что мне делать?
— Поезжай. Не забывай… — И ее рука описала широкую дугу, словно одним движением она хотела замкнуть некое пространство, охватить то, чего не выразить словами. — Не забывай про нас. У меня один-единственный сын… Это твой отец. И он все потерял. Никогда ей этого не прощу… Поезжай. Это не твоя вина…
Я отступил на шаг, но все не мог оторвать глаз от ее лица. Никогда еще не видал я такой ненависти. И подумал, что для своей бабушки в эту самую минуту я перестал что-либо значить. Теперь один только человек был ей важен: ее собственный сын. Только мой отец. И весь мир она, наверно, поделила на тех, кто с ним, и на тех, кто может обидеть его. С сегодняшнего дня для своей бабушки я отношусь к тем другим. Я не стал ей отвечать, да она и не ждала моего ответа. Опустив голову, я отошел от крыльца.