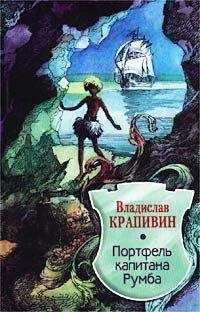Магдалина Сизова - «Из пламя и света»
После звонка мгновенно смолкают и голоса и шарканье ног. Глубокая тишина встречает появление Павлова на кафедре. У него немного утомленное и бледное лицо.
Он окидывает быстрым взглядом аудиторию, поднимает руку и начинает говорить.
Кончив лекцию, Павлов быстро сходит с кафедры и скрывается в учительской.
В аудитории поднимается гул. Ученики вскакивают с мест, обмениваясь мнениями.
Лермонтов встает и отходит к окну, где мигают под порывами ветра дрожащие огни уличных фонарей.
Группа учеников останавливается в стороне.
— Почему он вечно ищет уединения?
— Потому что горд и холоден и относится ко всем с непонятным высокомерием. Никакой талант не дает на это права!
— Лермонтов холоден? — с негодованием восклицает Сабуров. — Да я не знаю во всем нашем пансионе никого отзывчивее и великодушнее его! Лермонтов добр и предан своим друзьям! Но нужно быть его другом для того, чтобы его узнать.
— Я не принадлежу к числу этих избранников, — сердито говорит Гордеев, — и нахожу, что он холоден не только к нам, но и ко всему на свете. Держу пари, что и лекция Павлова оставила его равнодушным.
— Хорошо — пари!
Группа учеников, окружившая двух спорящих, направляется вместе с ними к Лермонтову, и Гордеев спрашивает:
— Ну как, Лермонтов, какова нынче лекция Павлова?
Лермонтов вздрагивает и оборачивается.
— Я никогда не слыхал ничего подобного. Какие большие, полные величия мысли! Это замечательно! И какая четкость, какая ясность изложения!..
Товарищи по классу с удивлением смотрят на его взволнованное лицо.
— Да ты восторженный слушатель! — с усмешкой произносит один из них.
Лермонтов мгновенно умолкает и сухо говорит:
— Я только отдаю должное Павлову, — и уходит из аудитории.
— Вот видишь! Я был прав! Как горячо он отозвался о Павлове! — торжествует Сабуров.
— Но после этого опять стал холодным и надменным. Я тоже был прав, — возражает Гордеев.
Ученики шумной гурьбой выбегают из широкого подъезда Университетского пансиона, и спорящие голоса еще долго звенят в воздухе.
…Лермонтов, встревоженный и раздраженный, широко шагал по улице, направляясь к дому.
«Чего они хотят от меня? Дружбы слегка, мимоходом, которую только и признают они?!» — думал он, вспоминая долетевший до него насмешливый возглас.
Нет, он понимает дружбу иначе. Дружить — значит верить другу до конца, отдавать ему все сердце, быть готовым ради него на любую жертву! Немного на свете таких друзей… Дурнов! Вот он, настоящий друг!
И уже роились в голове благодарные строчки:
Я думал: в свете нет друзей!
Нет дружбы нежно-постоянной,
И бескорыстной, и простой;
Но ты явился, гость незваный,
И вновь мне возвратил покой!
ГЛАВА 20
Павлов разрешал иногда лучшим из старших учеников пансиона присутствовать на своих лекциях в Университете. Двери его все равно скоро должны были раскрыться перед ними. В последнюю весну своей пансионской жизни перед поступлением в Университет на лекции Павлова среди других был однажды и Лермонтов.
С волнением, которое все они усиленно старались скрыть, входили пансионеры в стены Московского университета.
Студенты в маленьких фуражках, иногда плохо державшихся на голове, останавливались группами на широком дворе и, перебросившись несколькими словами, с деловым видом входили в Университет.
Десять пансионеров, гордые полученным правом послушать Павлова в стенах Университета, уже чувствовали себя почти студентами, почти равными этим оживленным, немного шумным юношам, собравшимся здесь со всех углов России, и с любопытством прислушивались к обрывкам долетавших до них разговоров, к брошенным на ходу фразам.
— А вы куда? — быстро взбегая по лестнице и обгоняя двух своих товарищей, крикнул высокий, длинноногий студент в маленькой фуражке, съехавшей совсем на затылок. — Ведь вы другого факультета?
— Ну и что же! Павлова все факультеты слушают!
— Что в нем особенно примечательно, — донесся до Лермонтова звонкий голос студента, окруженного толпой слушателей, — это та удивительная ясность, с которой он излагает свой предмет.
— Московский университет, господа, — средоточие русского образования и приют русского свободолюбия. Поэтому он и есть «рассадник разврата», как изволило выразиться одно лицо, возненавидевшее его еще с Полежаевской истории.
Проходившие мимо Лермонтов и Сабуров переглянулись. Оба поняли, что это за «лицо». Император Николай! И хотя у них в Университетском пансионе ученики в свободное от уроков время тоже не стеснялись высказывать свои мнения и любили потолковать на опасные темы, все же им показалась замечательной та смелость, с которой произнес эти слова студент.
В этот раз Павлов, словно памятуя о присутствии юных учеников Благородного пансиона, говорил особенно просто и убедительно.
Взволнованная и возбужденная расходилась молодежь из аудитории.
Проходя коридором, Лермонтов опять увидел студента, который перед началом лекции говорил о том, что Московский университет — приют русского свободомыслия. Теперь он стоял у окна, как и тогда, окруженный небольшой группой товарищей, внимательно его слушавших.
Лермонтову запомнилось красивое лицо с очень большими, необыкновенно живыми глазами. Он ясно разглядел его, подойдя ближе. Слова, которые он услышал, заставили его невольно остановиться.
— Университет и не должен заканчивать образования. Его дело — развить в нас мышление и научить ставить вопросы, что и делает Павлов.
— Вы не можете сказать мне, кто этот студент? — спросил Лермонтов.
— Который? У окна? Он с физико-математического.
— А как его имя?
— Имя? Герцен, Александр.
ГЛАВА 21
Шумными и веселыми бывали в Университетском пансионе перерывы между уроками. В большом зале ученики прохаживались парами и группами, оживленно беседуя или горячо споря и об игре Мочалова, и о только что вышедшей седьмой главе «Онегина», которая своей простотой и реалистичностью вызвала резкие нападки Булгарина, и о том, кто лучше ведет занятия, Павлов или Перевощиков, и о том, сообщит или нет классный надзиратель Павлову, что один из учеников старшего класса опять принес в пансион запрещенные стихи.
В углу актового зала боролись, чтобы «размяться», а в опустевшем классе, где собралась небольшая группа учеников, кто-то читал такие стихи, к которым весьма сурово отнеслось бы Третье отделение Канцелярии его величества. Да, «дух вольности» царил не только в Университете, как это было весьма хорошо известно шефу жандармов графу Бенкендорфу. И не только ему: граф Бенкендорф не преминул поставить его величество государя императора в известность о том, что благородные воспитанники Университетского пансиона имеют весьма неблагородные склонности, а именно: они интересуются судьбами низшего сословия государства Российского — крепостного крестьянства — и обсуждают действия правительства, открыто заявляя, что основа основ русского самодержавия — крепостничество — позор России.
В один мартовский солнечный день в большом актовом зале было особенно оживленно.
Дурнов, подойдя к небольшой группе учеников, спросил негромко:
— Кто хочет послушать стихи Пушкина, которые я списал сегодня? Пойдемте в класс, там сейчас никого нет. Я вам прочту их, но в руки никому не дам.
— Господа, кто идет?
— Все, конечно!
— Может быть, поставить кого-нибудь сторожить в коридоре?
— Ну вот еще, кто согласится? Всем послушать хочется. Да и нет никого теперь в коридоре. А войдет кто — уберем.
Дурнов начинает читать стихотворение, которое уже тайно ходит по Москве:
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
Уже раздался звонок — конец перерыва, когда в коридоре появился высокий генерал. Внимание его привлек список лучших воспитанников — гордость пансиона. «Что это?! Николай Тургенев?!» Так вот оно что!.. Здесь славят одного из участников восстания 14 декабря! Генерал грозно посмотрел на учеников, вихрем промчавшихся по коридору, и, проводив их глазами до дверей класса, медленно проследовал дальше. Проходя мимо полуприкрытых дверей, он еще раз остановился и прислушался: кто-то читал стихи, но слов нельзя было разобрать. И вдруг одна строка — всего четыре слова:
…братья меч вам отдадут.
«Какие братья? Какой меч? — подумал генерал. — Как будто слыхал я где-то эти слова!.. Не припомню! Надо будет справиться у Бенкендорфа…»
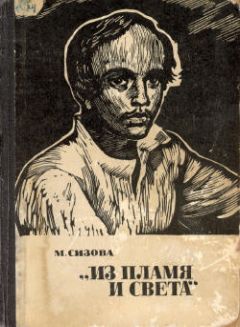
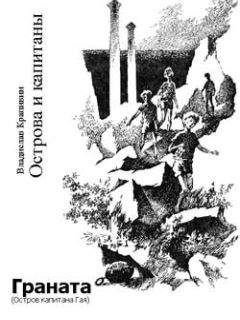
![Владислав Крапивин - Валькины друзья и паруса [с иллюстрациями]](/uploads/posts/books/209202/209202.jpg)