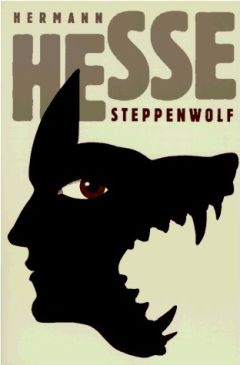Татьяна Толстая - Детство Лермонтова
— Умерли они, умерли еще в младенчестве, а маменька моя так огорчалась этим, что никому не говорила. А я самая старшая осталась, и зачем я живу, неизвестно. Хотела было Мишеньку воспитывать, единственное мое утешение, наследником своего имения сделать, но и то мне, видно, не удастся!
И Арсеньева снова зарыдала.
Все молчали, ожидая, что она еще скажет.
Юрий Петрович оглянулся, ища поддержки у присутствующих. Но лица их были каменными, и он понял, что все они будут поддерживать Арсеньеву и любую, даже самую наглую ложь объявят истиной, только чтобы выгородить «своего человека».
— Пятьдесят семь, а не сорок? — спросил Юрий Петрович вспылив. — Вам пятьдесят семь? Клянитесь, иначе я не поверю!
Арсеньева побледнела и забормотала, что из-за таких пустяков клясться не стоит, что Юрий Петрович может поехать в Тарханы и наблюдать, как она будет записывать свой возраст перед исповедью.
— Ах, раз так… — в неистовстве воскликнул Юрий Петрович. — Тогда мне придется действовать иначе!
— Вы слышите? — крикнула Арсеньева басом. — Он угрожает мне!
Лицо Юрия Петровича налилось кровью, и он оттянул пальцем воротник, который стал его душить.
— Будь проклят тот час, когда я встретился с вами! — задыхаясь, прошептал он, махнул рукой и, не прощаясь ни с кем и не глядя на рыдающего сына, выбежал из комнаты.
Через несколько дней Арсеньева с внуком выехала в Тарханы, объявив, что она желает говеть дома. Перед причастием, когда дьякон в первую очередь записал поручицу Арсеньеву с внуком, то на вопрос, сколько ей лет, она ответила: «Пятьдесят семь». Дьякон не придал этой записи особого значения, и с тех пор каждый раз, бывая у причастия, она прибавляла себе по одному году. Арсеньева ввела этим в заблуждение многих исследователей биографии Михаила Юрьевича Лермонтова, и благодаря этому на могиле ее до сих пор значится, что она умерла восьмидесяти пяти лет, тогда как на самом деле ей было семьдесят три года. Но в то время она готова была на все, только бы настоять на своем и оставить у себя внука. Она так ненавидела зятя, который противодействовал ей, что не желала даже слышать его имени, и отчество своего внука записала: «Михаил Евтихиевич, сын капитана Лермантова», говоря, что имя Юрий в святцах упоминается разно: Юрий, Егор, Евтихий и Георгий, — это одно и то же имя, поэтому можно выбирать любое.
После этой записи Арсеньева почувствовала себя больной и никуда не отпускала от себя Мишеньку, боялась, что Юрий Петрович, который ввел ее в такой страшный грех, украдет ребенка.
Задумываясь о будущем, Арсеньева полагала, что полезнее для здоровья жить в деревне, чем в городе. Может быть, лучше сжечь дом? Нет, зачем? Лучше продать на слом и снос — хорошие деньги дадут: бревна толстые, еще два века простоят.
…Арсеньева приняла двойную порцию гофманских капель, но они что-то плохо действовали на этот раз. Дорожный возок уже стоял у крыльца. Обливаясь слезами, она долго ходила вместе с Мишей по всему дому, прощаясь с каждой комнатой, с каждой вещью, оплакивая свою молодость и причитая, что скоро умрет. Забывшись, она довела ребенка до отчаянных рыданий и тогда только опомнилась и велела кучеру ехать на кладбище.
Вид могил вызвал новую бурю отчаяния. Она велела управителю Абраму Филипповичу немедленно же выстроить часовню и заказать в Москве два мраморных памятника.
После обильных отчаянных слез и всхлипываний Арсеньева едва села в экипаж, взяла Мишеньку на руки и испугалась: ребенок был бледен и дрожал мелкой дрожью. Всю дорогу она старалась успокоить и развеселить мальчика, что, впрочем, ей удавалось плохо. В Пензу Мишу привезли почти без сознания — он лежал с закрытыми глазами и безучастно слушал все, что ему говорила бабушка.
Глава III
«Надо выстроить новый дом!» Первая поездка на Кавказ
Арсеньева вызвала брата Афанасия Алексеевича и подробно разъяснила ему, чего она хотела: срыть старый помещичий дом, где случилось с ней столько несчастий, — срыть до основания и на его месте построить церковь в память Марии Михайловны, а поблизости, саженях в десяти, выстроить новый дом, попроще, с меньшим количеством комнат. Всю обстановку старого дома надо продать, чтобы ничто не напоминало о прошедшем, а все вещи до единой либо расторговать, либо обменять, а ежели нельзя за них ничего взять, то сжечь. Она повторяла без конца, что не желает ничего сохранить из старого, чтобы не мучиться воспоминаниями.
Афанасий Алексеевич молча выслушал возбужденную речь своей старшей сестрицы и вздохнул. Шутка ли! Сколько дел Арсеньева возлагала на него: распродать обстановку чуть ли не тридцати комнат, выгодно продать посуду, серебро, люстры, бра и всякое добро — диванные подушки, портфели, книги…
Продать дом проще всего, покупщиков найдется много, лесу-то в уезде нет. А вещи домашнего обихода? Ведь, пока дом не освобожден, нельзя его ломать, нельзя начинать постройку нового, а потом все комнаты надо высушить, выкрасить, вытопить как следует и, чтобы сделать дом жилым, меблировать. Для парадных комнат мебель придется выписать из Москвы, а часть мебели пусть сделают свои крепостные столяры и плотники, — скажем, кроватку для Мишеньки, детский столик, высокое креслице.
Елизавета Алексеевна с благодарностью выслушивала брата; она была слишком безучастной, чтобы ему возражать.
— Распоряжайся, милый, как знаешь! — говорила она усталым голосом. — Заранее спасибо тебе, дружок!
Арсеньева оживала, когда смотрела на внука. Ее не покидало опасение, что отец может украсть мальчика. Мишенька, одетый в теплую одежду, настойчиво пытался научиться ходить; он стоял, держась за кресла и диваны, но чаще ползал по краям ковра с мелком в руке и чертил на полу. Арсеньева разрешала ему делать все, что угодно, лишь бы он не плакал; а плакал он надрывно и обиженно, и слышавшим его плач казалось — так может плакать незаслуженно оскорбленный, жалуясь, что он не может доказать правоту свою.
Глядя на внука, бабушка постоянно проливала слезы и просила брата:
— Еще вот что, Фанюшка… Застели-ка ты пол в детской и в спальной серым солдатским сукном. Миша любит фигурки чертить и зимой простуживаться не станет, а у меня ноги больные, мне это тоже не повредит.
— Паркета, значит, не делать?
Решили не делать. Дом должен быть совсем простой.
Долго советовались, откуда достать тесу на постройку нового дома и церкви. Дом должен быть деревянный, оштукатуренный. Нужно было бы послать за бревнами мужиков летом, пока дорога стоит, но Арсеньева запротестовала — урожай прозевают. Лучше, не откладывая, теперь же, зимой, по санному пути, а летом пусть кирпичей наделают в «кирпишной» да хорошенько их просушат — пойдут на фундамент, на печи… Так, в беседах о постройке нового дома, проходили долгие часы.
В Пензе частым гостем был брат бабушки Александр Алексеевич. В молодости он был адъютантом Суворова.
Александр Алексеевич оставался при нем в течение двух лет в Тульчине, когда Суворов писал свой труд, излагая важнейшие правила военного искусства и свои взгляды по вопросам обучения и воспитания войск.
Другой брат, Николай, тоже собирался на Кавказ. Он получил в наследство после отца его имение на Кавказе и намеревался там наводить свои порядки.
…Однажды в ясный солнечный день перед домом Арсеньевой остановился экипаж. Когда Миша выглянул в окно спальной, где он сидел с бабушкой, то увидел, что из дорожного рыдвана высунулось лицо молодого, еще незнакомого ребенку военного в парадной треуголке.
Лакей спрыгнул с козел и постучался в подъезд, и тотчас же Арсеньевой доложили, что к ней пожаловал Николай Алексеевич Столыпин.
— Просить! — радостно воскликнула бабушка.
Опершись на палку, она поднялась с кресла, подошла к зеркалу, сдернула свой белый будничный чепец, накинула парадный, тюлевый, и быстро укрепила его шпильками.
Миша не отходил от окна и видел, как дворовые с почтительными поклонами встретили гостя. Дверца экипажа открылась, и из него вышел богатырского сложения черноусый генерал в треугольной шляпе с плюмажем, в многоярусной шинели. Он твердо стал на тротуар и шагнул, не сгибая колен, жестко постукивая каблуками, словно ноги его были выточены из дерева. Шинель раскрылась, и показался форменный сюртук из тонкого сукна, с начищенными пуговицами и белые лосины над лакированными высокими сапогами.
— Это фигура? — с изумлением спросил мальчик.
— Бог с тобой, Мишенька, что ты такое говоришь!.. Это человек, а не фигура… Ты, может быть, хочешь сказать: заметная фигура? Это верно. Брат Николай заметен не только у нас в губернии, но и в Петербурге. Но не будем медлить. Пойдем!
В гостиной Николай Алексеевич с распростертыми объятиями пошел навстречу сестре. Он снял шинель в передней, и теперь на плечах у него оказались золотые эполеты в позументах, с дрожащей вокруг них металлической пружинной бахромой; сбоку волочилась сабля.