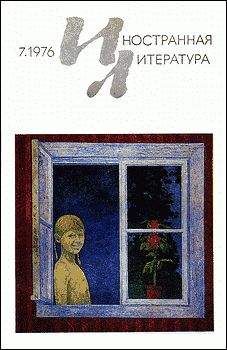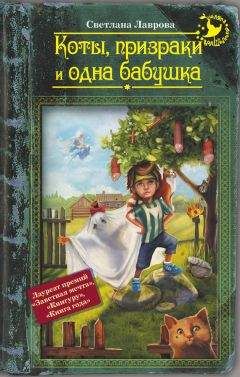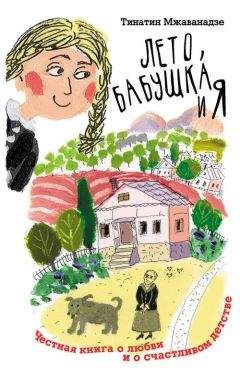Александр Кононов - Зори над городом
Шумов поморщился:
— Как ты можешь… Я же тебе сказал, что у ней несчастье!
— Э, время все залечивает. Смотри, как бы кто другой тебя не опередил. Осушить такие прелестные глаза охотники найдутся.
— Не хочу я продолжать подобные разговоры!
Борис захохотал:
— Эх ты, монах в синих штанах!
— Перестань!
— Ну, ну! Орать на меня не было уговора.
— Не было уговора и мерзости говорить.
— Мерзости? Тоже мне еще рыцарь нашелся!
— Рыцарь не рыцарь, а мерзостей говорить в моем присутствии не позволю.
— Ах, в вашем присутствии? В присутствии столь высокой персоны? И как это — не позволишь? И при чем тут мерзость? Шутка простая…
— Бывают шутки мерзкие.
Студенты чувствовали, что в раздражении могут наговорить лишнего, о чем потом, может быть, и пожалеют, но остановиться уже не могли: разговор становился все более неприятным.
— Сказал бы сразу, что это дама твоего сердца, я и не стал бы тебя задевать.
— Ну, знаешь ли… Если так — до свиданья!
— Это как же позволите понимать? Гостю — и «до свиданья»?
— Да, гостю — и «до свиданья». Не надо мне таких гостей! — закричал Гриша, уже не владея собою.
— Ты пожалеешь о своих словах, — бледнея, проговорил Барятин.
— До свиданья!
— Нет, тогда уж не до свиданья. А — прощай! Подумать только, как отплатил ты мне за все, что я для тебя сделал!
Барятин, уходя, срыву распахнул дверь, и Гриша увидел у ситцевой занавески испуганно-любопытное лицо Марьи Ивановны, слышавшей весь разговор.
А вечером того же дня учтиво-наглый лакей вице-губернаторши принес Григорию Шумову конверт из великолепной полотняной бумаги, в котором лежал голубой надушенный листок: господин Шумов извещался о том, что с сего числа в его услугах не нуждаются.
Ах, Борис, Борис! Вот до чего ты, значит, дошел!
Никаких причин для отказа «от услуг господина Шумова» не было — занятия с Коко увенчались таким успехом, какого и ждать было нельзя: в балльнике лицеиста стали появляться самые высшие отметки. В чем же дело? Значит, Борис Барятин в жажде мести успел (и как поспешно!) побывать у «мадам» и в чем-то очернить недавнего своего приятеля. Это, конечно, не доставило ему больших трудов — «вице-дуреха» и без того относилась к Шумову довольно кисло по причинам, для него неизвестным.
Ну, уж подобного поступка от Барятина все-таки никак нельзя было ожидать.
И, однако, сомневаться, не приходилось. Недаром же он сказал уходя: «Ты пожалеешь».
— Ответа не будет? — спросил лакей, с пренебрежением оглядывая убогую обстановку студенческой комнаты.
— Нет!
Так вот как все вышло.
Ехал в столицу из уездного городка парень, немного угловатый, среди сверстников слывший почему-то за умного, ехал с самыми светлыми предчувствиями, загадывал: если встанет поутру наперекор сегодняшнему ненастью солнце, тогда все «с самого начала» пойдет счастливо.
Вот оно, твое счастье, Григорий Шумов! Кого искал, того (или той) не нашел. В первом же человеке, в котором надеялся встретить друга, обманулся. Заработок потерял.
В унынии лег он на диван, закинул руки за голову и долго лежал в темноте.
В квартире было тихо — должно быть, все ушли.
Такая тишина как нельзя больше располагает к грустным размышлениям.
Потерять заработок в его положении — не шутка… А впрочем, черт с ним, с заработком, если при этом приходится быть обязанным фальшивому человеку. Жалеть не приходится!
Гриша теперь чувствовал к Барятину нечто вроде гадливости: с какой стороны ни поглядеть, иначе как подлостью поступок его не назовешь.
Даже если он сделал это сгоряча — все равно, нет ему оправдания!
В передней (в узком пространстве между занавеской и входной дверью) еле слышно всхлипнул колокольчик; кто-то тронул его чересчур осторожной рукой.
Гриша переждал, прислушался. Никто не открывал.
Колокольчик звякнул слышней. Ничего не поделаешь, придется вставать — в квартире, кроме него, никого нет. Даже Марья Ивановна, значит, ушла куда-то по соседству, поделиться свежими новостями.
Гриша с досадой поднялся, нашарил в темноте спички и пошел зажигать висевшую на жестяном щитке, у самого косяка входной двери, маломощную и чрезвычайно пахучую керосиновую лампочку.
Колокольчик звякнул, на этот раз уже с нетерпением: раз, другой, третий.
Ни Марья Ивановна, ни соседи Гришины так не звонили. Кого это еще принесло? Не Персица ли снова?
— Сейчас! — крикнул он сердито, закончил возню с заросшим сажей фитилем лампы, надел стекло и, не спрашивая, кто звонит (бояться тут не было в обычае — откуда взяться в такой квартире имуществу, привлекательному для злоумышленников?), открыл дверь.
— Руки вверх! — громко сказал шагнувший через порог рослый человек.
Разглядев при тусклом свете студента, он вежливо снял с головы барашковую шапочку пирожком, какие чаще всего носили молодые рабочие.
— Извините, — проговорил он, — я думал, это Тимофей Леонтьевич.
— А его, кажется, нет дома. — Гриша подошел к двери в комнату Шелягина и на всякий случай постучал. — Он не приходил еще.
— Вот досада-то! — огорченно сказал вошедший и повернулся уходить, но не ушел, словно раздумывая.
Луч чахлой лампочки упал на него — свету хватило ровно настолько, чтобы осветить черную бровь, круглый соколиный глаз, смуглую щеку… и сердце у Гриши забилось.
— Неужто дядя Кирюша?!
Вошедший круто обернулся — это был Комлев; все тот же, каким знал его и любил Гриша за веселый нрав, за удаль, которой тот славился на всю деревню Савны и даже далеко за ее околицей… Только лицо Кирилла, прежде худощавое, как будто раздалось вширь да плечи стали еще могутней.
— Дядя Кирюша!
Комлев осторожно вгляделся в Гришино лицо:
— Не признаю.
— Ну как же так?
— Ей-ей, не признаю.
— Да я же Шумов Григорий. В «Затишье» встречались… Забыл?
— Забыть — не забыл, а поверить — никак не поверю, Ивана Иваныча наследник, что ли?
— Ну да!
— Вот история-то! Ты что ж, теперь с ясными пуговицами? Встретил бы я тебя на улице — ни за что не угадал бы.
— А я тебя сразу узнал! Ну, пойдем ко мне, потолкуем…
— Меня-то немудрено узнать: я как числился в дядях, так в этом звании и остался. А ты был мальчонкой, а теперь сам дядей стал. Вот оно в чем разница-то.
Кирилл вошел вслед за Гришей в комнату и спросил:
— Стало быть, теперь мне тебя и обнять не полагается? Вон какая на тебе одёжа.
— Полагается, дядя Кирюша… Обязательно!
Они обнялись, потрясли друг друга по-мужицки, изо всех сил, и Кирилл сказал одобрительно:
— Костью в батю пошел. Силенки хватает?
— Не жалуюсь. А я знал, дядя Кирилл, что ты в Питере.
— Ну как же! Я давно столичный житель. В пятом году, как подался из деревни, сперва плоты гонял на Двине, а потом сюда определился, в грузчики.
— А на войну почему не попал?
Кирилл молча протянул на свет правую руку: вместо среднего и указательного пальцев торчали на ней два обрубка, похожие на разросшиеся мозоли.
— На плотах бревном ударило. Да что ты все меня спрашиваешь, а сам про себя ничего не говоришь?
— Да про меня что ж говорить? Вот — учусь в университете. А больше и рассказать нечего.
— «Рассказать нечего»! Да это ж самое удивительное — из нашего брата мужика хоть один человек в бары попал.
— За что ж ты меня обижать вздумал, Кирилл?
— Обижать? — Комлев спохватился. — Верно, не то слово сказал, это меня твои пуговицы сбили… А за то, что в бары не лезешь, дай-ка я тебя еще раз обойму.
Они опять обнялись. И опять Комлев сказал:
— Костью широк.
— В грузчики гожусь?
— Хоть завтра могу определить — баржи разгружать. — Кирилл вдруг прищурился и залился тоненьким, не подходившим к его фигуре смехом: — А своего знакомца, дружка моего — Ивана-солдата помнишь? Тоже здесь, в Питере. И знаешь, кем он тут состоит?
— Кем?
Кирилл опять засмеялся:
— Иван теперь важная птица. На большой должности состоит… Старшим дворником.
— Вот бы его повидать!
Кирилл покачал головой:
— А вот уж этого нельзя. Никак нельзя.
Он поглядел на Гришу, подумал. И будто решился:
— Ладно. Тебе-то я могу сказать. Ты ведь к этому делу причастен. Помнишь, носил ты в лес Кейнину книжки, красивые такие, листки в них будто в голубизну малость ударяют, с черной печатью — орел лапы распятил, — ну, все как полагается?
— Паспортные бланки. Помню, — сказал Гриша.
— Одну из таких книжек Кейнин отдал Ивану. Годов ему по паспорту прибавили, бородищу мой дружок отрастил во всю грудь, до пояса, вероисповедание ему поменяли: из старовера православным сделали… Ну, и ясное дело — фамилию вписали другую. Только имя, Иван, оставили. Но помни, Гриша: говорю тебе только как Шумову, как человеку, к этому делу причастному…