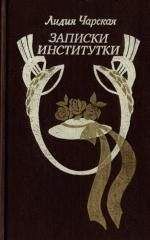Марк Ефетов - Тельняшка — моряцкая рубашка. Повести
Отец увидел меня, и сразу же брови его соединились на переносице.
— Где ты был?
— Спал.
— Где?
— На носу.
— Мы обыскали весь корабль. О каком носе ты говоришь?
— Я был в салоне на носу «Диспашора», за занавеской на парусе.
— Вот уж этого никто не мог предположить, — сказал отец. — Хорош сынок! А ведь я предупреждал тебя, что в море с человека спрашивают больше, чем на суше. Предупреждал?
— Да, папа. И ты ещё говорил мне, что в спасательной экспедиции спрашивают больше, чем на море.
— Хорошо хоть, что ты помнишь, что тебе говорили. И счастье твоё, что сейчас и сердиться-то нельзя. Радость: «Карелия» спасена. Только что стащили «Карелию». Ты видишь — вот она качается на волнах. Качается!
— Вижу!
— Как жаль, что ты проспал. За всю свою жизнь я не был в такой морской упряжке. Маленький «Диспашор» и большой «Пушкин». Мы привязались стальными тросами к «Карелии», Гегалашвили был на мостике, я на лебёдке. Машины работали на полную мощность. Но камни ещё цеплялись за «Карелию». Тросы не выдерживали — лопались. А с «Лавалета» семафорили флажками: «Соглашайтесь на открытый лист, пока мы не ушли».
— И согласились? — спросил я.
— Что ты! На «Карелии» об этом никто и не думал, хотя почти все отсеки корабля ещё заливало водой. На днище ведь разошлись швы, оттого что корабль тянули по камням. Но мы снова закрепили трос и снова тянули. Пока, наконец, «Карелия» не покачнулась и не начала медленно сползать с камней в море. Сначала чуть заметно. А потом быстрее, ещё быстрее. И вот она на чистой воде.
В это время раздался протяжный гудок:
— «Карелия»! — воскликнул отец. — Слышишь, подаёт голос. Тише.
Ту… ту… ту… ту… у… у!.. И снова: ту… ту…
Можно было подумать, что кто-то баловался, дёргая за ручку гудка. Но оказалось, что это не баловство, а звуковые сигналы.
— «Карелия» прощается с «Лавалетом», — сказал отец. — Слышишь, желает «Лавалету» счастливого пути.
Я вспомнил капитана пиратского корабля и сказал:
— Ему бы пожелать наскочить на камень.
— А зачем? — Отец вытер платком мокрый лоб. — От ругани толку мало. Если в гневе пнёшь камень, то только ноге будет больно. Пираты могут награбить золото, но счастье всё равно проплывёт мимо них. Пошли в кубрик. Слышишь? Нас зовут.
ТОНЕМ
Битва за спасение «Карелии» закончилась. Пароход этот снимали с камней в такой сильный шторм, что на «Пушкине» укачало даже кочегаров — этих людей, которые всегда казались мне вылитыми из бронзы. Кочегары падали — не могли стоять вахту. А «Диспашор» — это маленькое судёнышко — волны избивали как хотели.
Море, которое, казалось, взбесилось, сорвало спасательную шлюпку на «Диспашоре», обрушилось на капитанский мостик, поломало здесь поручни, порвало снасти, повалило и оглушило капитана.
С «Лавалета» радировали «Диспашору»:
— Отходите. Вас сейчас выбросит на камни.
Но Гегалашвили и не думал отходить. Он приказал привязать себя к мачте, чтобы его не смыло волной, и продолжал командовать своим судёнышком.
Отец стоял у лебёдки. Когда оборвали провод, который давал моторам ток, лебёдку крутили вручную. Крутили до тех пор, пока снова не застучала машина. А железо на ручках лебёдки уже покраснело, будто покрылось ржавчиной. Но это была не ржавчина. После спасения «Карелии» мама с неделю, должно быть, бинтовала пальцы отца. На пальцах у него потрескалась кожа на мозолях, и руки кровоточили.
Да, снять «Карелию» с камней было совсем не просто. Спасти попавший в беду пароход было особенно сложно потому, что подводные камни не позволяли спасательным кораблям подойти близко к «Карелии».
Тогда в воду спустился водолаз. Он очутился как бы в каменном ущелье. Скалы выше человеческого роста и огромные острые камни были всюду. Водолаз пробирался согнувшись, а где и на четвереньках или ползком. Он изучал днище «Карелии», искал места пробоин и разрывов. Затем водолазный бот, рискуя разбиться в любое мгновение, доставил на «Карелию» Гегалашвили, моего отца и двух матросов. Этот же бот отвёз на погибающий корабль мощные насосы с «Диспашора». И вот матросы и мой отец стали заводить пластыри, а проще сказать — ставить латки на повреждённое днище «Карелии». Гегалашвили в это время руководил откачкой воды. И «Карелия», чуть покачиваясь, начала медленно приподниматься с камней.
Теперь отец и Гегалашвили вернулись на «Диспашор». Тут-то и получилась морская упряжка, о которой говорил мой отец: «Карелию» вытягивали, как репку из сказки: «Бабка за дедку, дедка за репку…» «Пушкин» — за «Карелию», «Диспашор» — за «Пушкина». И в то время, когда снимали с камней «Карелию», на самой «Карелии» снимали все вспомогательные механизмы: грузовые краны, шлюпки со шлюп-балками, на которых они подвешены, всё, что было тяжёлым, что заставляло корабль сидеть глубоко в воде. А в трюме по горло в ледяной воде моряки вгрызались в решётки приёмного шланга, выбирая мусор, грязь, щепки, чай — всё, что забило насосы.
Казалось, что всё страшное позади, что «Карелия» спасена, что остались самые пустяки — отбуксировать в порт больной корабль, избитый волнами и истерзанный рифами.
Нет, всё было не так-то просто.
К тому времени, когда «Карелию» стянули с рифов, волнение усилилось. Теперь уже не понять было, где кончалось серо-зелёное море и начиналось такое же грязное небо. Здесь, у этого каменистого острова, погода менялась по нескольку раз в день. И вот пришла новая беда. Раньше плохо было оттого, что «Карелию» держали рифы. А теперь корабль оказался на плаву, но корабль неуправляемый, со сломанным винтом и рулём, безжизненный, беспомощный, как человек, связанный по рукам и ногам и брошенный в воду. При этом случилось так, что неуправляемая «Карелия» вдруг развернулась, стала бортом к волне и стукнула всей своей тяжестью маленький «Диспашор»…
Я помню только, как в то мгновение кто-то невидимый вырвал из-под моих ног палубу, как я опрокинулся, увидел кончик мачты, небо, нос «Диспашора» и снова палубу. Я проделал полный круг, или, как говорят в цирке, сделал сальто-мортале. Но в это время сообразить всё это было невозможно. У меня было такое ощущение, будто кто-то швыряет меня, подбрасывает, играет мной, как мячиком. Помню ещё руку отца, ухватившего меня за пояс, и его голос:
— Держись!
Маленький корабль перебрасывало с волны на волну, мотало из стороны в сторону.
Было мгновение, когда, оправившись от страшного удара, «Диспашор» снова как бы устоялся, но где-то шумела вода, и стало заметно, что море медленно поднимается к бортам.
«Тонем», — промелькнуло у меня в голове.
Да, теперь решали минуты. Качка стала куда сильнее, потому что во время удара машина «Диспашора» заглохла. Нас накренило так, что я размахивал руками, старался схватить что попало — лишь бы удержаться. К такой качке приноровиться нельзя. Казалось, что наш «Диспашор» встал на дыбы. Вслед за отцом я выкарабкался на палубу и схватил за рукав Гегалашвили.
— Спокойно, — сказал капитан. — Без паники.
Вода перекатывалась уже по палубе, поднималась выше моих ботинок. Я это чувствовал потому, что ноги мои сковывал мокрый холод. Громадная водяная гора, окутанная морской пылью, росла, мчась к нам с огромной скоростью.
— Нужно искать повреждение! — прокричал охрипшим голосом Гегалашвили. Он обвёл взглядом всех, кто стоял на палубе. — Нужно спуститься за борт и проползти на руках до носа…
— Раздавит, — сказал отец. — «Карелия» рядом.
Палуба накренилась, и нас снова ударило волной по ногам. Ударило высоко — меня выше колен, а взрослых тоже так высоко, что в их матросские сапоги хлынула ледяная вода.
Корабль оседал. Пенящиеся гребни волн лезли на нас со всех сторон.
Гегалашвили рванулся вперёд, но отец схватил его за бушлат.
— Ты слишком тяжёл, Самсон. И я уже не гожусь для этого.
— Я! — выскочил вперёд Витька.
— Нет! — Гегалашвили оттянул Виктора назад. — Я не могу посылать тебя на смерть.
— А вы же сами хотели. Вы — капитан. — Виктор вырвался и побежал к перилам.
Всё это произошло скорее, чем удаётся мне рассказать. Мы только увидели, как мелькнул в воздухе блестящий бушлат и сапоги Виктора.
Гегалашвили и отец побежали по борту к тому месту, где полз по ту сторону поручней Виктор. До меня долетели только отдельные слова, и разобраться в том, что к чему, мне было трудно. Я слышал, как капитан требовал топор, и видел, как пробежал матрос с грохочущим ящиком. Наверное, в нём были какие-то инструменты. Потом я слышал стук и скрежет.
Теперь здесь, у лестницы в кубрик, стоял я один, держась за поручни двумя руками. И трудно было разобрать в мешанине шумов — то ли ветер шумит, то ли скрежещет и грохочет топор…
Потом отец подошёл ко мне. Он вытирал мокрый лоб и щёки. Дышал отец тяжело, так, будто пробежал целую версту.