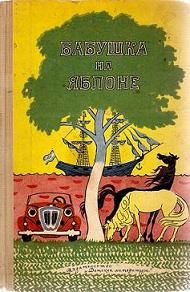Пит Рушо - Итальянский художник
Мы одни на корабле, синее море, белые паруса, небо голубое, спелые апельсины с зеленым хвостиком падают в воду, вода булькает свежо и прохладно, хлюпает легкая волна в борт. Азра подросла за время путешествия, похорошела. Она бросает апельсины за борт, апельсинов у нас полно. Азра тараторит без умолку, как хорошо было в Африке, рассказывает про какие-то свои приключения, я слушаю вполуха. Думаю: вот так бы плыть всегда — море, апельсины, Азра, детские рассказы о ерунде, солнечный свет, тишина, простор. Я сплю, море моего сна качает меня.
— Смотри, — говрит Азра и тычет загорелой рукой в голубое небо. Белое огромное облако, как гора, стоит высоко в голубом небе. Былое и прекрасное, снежной белизны. Становятся видны башни, стены, кипарисы. Город висит в вышине. От моря, с самой поверхности, до неба, до облака, на невероятную высоту поднимались пламенеющие ступени. Пламя оранжевое и легкое играло на голубых воздушных плитах. Ступени шли, изгибаясь дугой, лестница была длинной и пологой, она плавно поднималась, уходила сначала вдаль от города, а затем пылающей лентой приближалась к его башням.
— Что это? — спрашивает Азра.
— Это небесный Иерусалим, — говорю я.
— Пойдем?
И мы поднимаемся. Сверху море, острова, земля, города, поля, горы — всё видно, как на картинке. Стая гусей, перекликаясь, пролетает под нами. На въезде в Иерусалим мы помогаем вытащить какую-то телегу, застрявшую в облаке. Там у них ранняя весна, как это бывает в горах: талый снег, вода в колеях от тележных колес, клочья сена на мокром снегу и лепешки навоза под ногами. Весна, сосульки, капель. Переходим через ручей. В ручье окуни, прошлогодние листья и старая подмётка. Всё как надо. Копошатся куры, чёрный хвост петуха отливает сине-зеленым огнем. У самых ворот на брёвнах, на припёке сидит ангел лет десяти, вид у него страдальческий. Шмыгает носом, сдерживается из последних сил, чтобы не разреветься. А сам держит что-то в руке. Может, у него любимый хомяк сдох, или что еще похуже? — думаю я во сне, — что делать-то? И как к нему обращаться: ваше степенство?
— А я в Африке была! — кричит ему Азра и показывает язык. Он удивленно смотрит на Азру и вытирает нос рукавом.
— Что там у тебя, показывай, — сердито говорю я.
— Вот, — он раскрывает ладошку, и слезы начинают литься из его глаз, — вот!
Я вижу прозрачный камень, наподобие алмаза, очень красивый. Я не могу отвести от него глаз. Ангел замечает, что камень мне понравился.
— Видал какой! — говорит он и всхлипывает, — нравится?
Что-то необычайное произошло со мной. Мне захотелось непременно иметь этот камень, я чувствовал, что он наполняет всё мое существо теплом, чем-то значительным, не радостью, нет, о радости тут не могло быть и речи. Это было, как колыбельная песня и заупокойная молитва, как расставание с любовью, как в детстве, как сон, в котором ты видишь дорогих тебе давно умерших людей и плачешь от счастья и тоски, огненные настурции горят среди зелени на солнце, и понимаешь, что беда, беда, что наяву так не будет, да и не было никогда, но полнота сердца такая, что расстаться с ней невыносимо.
— Подари, — говорю я.
— Ты не представляешь, как тяжело будет владеть им.
— Я лучше руку себе отрежу, лучше я перестану дышать, чем откажусь от твоего камня.
— Тебе этот камень кажется красивым?
— Это самая чудесная вещь, какую мне доводилось встречать.
— А многие его не замечают. Он кажется им серым и тусклым.
— А что за штуковина?
— Это невыплаканные слезы ангелов.
— Подари, — снова прошу я.
— А ты знаешь, каково жить с таким камнем?
— Догадываюсь. Не делай из меня дурака.
— Тогда не обижайся.
Ангел разрывает мне грудь и вставляет свой алмаз мне в сердце.
Облачный город начинает таять в воздухе, исчезают крепостные стены, дорога уходит из-под ног, и мы с Азрой падаем. Я просыпаюсь. Всё хорошо. Я у себя в постели. Ночь. Я ещё смогу заснуть и выспаться, до утра ещё далеко.
Не хочу рассказывать, что на самом деле было в Африке, но левого глаза у меня действительно нет, вместо него вставлен темный камешек, но если я прищуриваюсь, то ничего не заметно. Да, а сон просто замечательный. Сон прямо про меня. Вот, старый, кажется, человек, а во сне тянет всё туда же. Как это глупо! Хочется иметь особое клеймо, миссию, что-нибудь эдакое. Избранничество — великий соблазн страдальцев.
Хорошо было бы уметь творить чудеса, чтобы все удивлялись и показывали пальцем. Например, научиться летать. Взлетел: до свиданья, земля! Вот море с корабликами, домики, разноцветные полоски полей, огородов, тёмные заплатки лесов, горы и пятна от облаков, ныряющие по зелени склонов. Хочется быть необыкновенным, потому что умение быть обыкновенным — слишком сложное мастерство. Требуется костыль печати избранничества: посмотрите, сколько у меня денег! Я страшно богат. Или родовит: моя прабабка была женой Цезаря — это же замечательно, какая сладость — иметь такую прабабку в запасе. Хорошо быть красивым, смотреть гордо, но великодушно; знать себе цену, говорить не вдруг и любезно улыбаться дамам. На худой конец, можно быть гонимым страдальцем, сделать из этого профессию и даже судьбу. Много есть интересных путей в обход самого себя и господа бога, прямой путь оказывается самым сложным и длинным. Я не о том, что надо перейти в первобытное состояние, чавкать за столом или вырывать бороду всякому, кто нам не по душе. Быть избранным — значит отойти в сторону; а просто жить — это почти невыносимо, это значит, что надо впрячься и тащить весь воз несовершенства мира, вступать в мелкие дрязги со всем липким и вонючим злом, какое ни есть на свете, это значит обнаружить себя перед богом и перед врагами, снять маску, выйти из удобной щели. И не просто выйти — вот он я, ешьте меня с кашей. Выйти, чтобы делать что-нибудь обычное, то, что даёт нам судьба, и не стенать слишком громко: за что мне такое наказание? Если бы было справедливое наказание за все наши художества, то даже страшно подумать. Не хочу думать. Есть многие вещи, в которых я не то что не могу покаяться, не знаю как сказать — они неизбывные. Они требуют только прощения свыше, их нельзя исправить и искупить. Самое неприятное, что я совершил бы их снова, если бы попал в ту же ситуацию. Совершенство обыденности — самое сложное. А хочется быть героем: серебряные шпоры, острый меч и знамя, вышитое гладью: львы, драконы и гордый девиз: ум и любовь!
Но что-то со мной там произошло. Или на обратном пути? Трудно сказать.
На тридцатый день нашего обратного плавания, в первом часу дня мы находились южнее Палермо между Сицилией и островом Устика и держали при попутном ветре курс на Мессину, в надежде пополнить запасы пресной воды и отремонтировать верхний рангоут, пострадавший во время шторма в Бонифациевом проливе, куда нас занесло по безалаберности лоцмана, взятого нами ещё в Касабланке. Лоцман утверждал, что Тирренское море он знает, как свои пять пальцев, и слова его содержали некоторую долю правды, потому что моря он не знал, а на руках у него не хватало пальцев, оторванных в былые времена по причине неосторожного обращения с такелажем. Наш корабль назывался «Святой Спиридон», он имел осадку на три локтя выше ватерлинии, и шёл неторопко, то и дело зарываясь носом в голубые мелкие волны. Студенистые медузы скользили по палубе, скатываясь в море через якорные клюзы. Матросы бездельничали с тем неистовым азартом лени, который возможен только в открытом море во время длительного плавания при благоприятном ветре. Матросы лежали под куском парусины, растянутом над верхней декой, и травили обычные морские байки. Матросы — непревзойдённые мастера бескорыстного вранья. Я невольно заслушался.
— В городке, где я родился, жил человек, который плавал по морям.
Легкий сон подхватил меня, колыхался, как прозрачная вода, баюкал и утешал. Смеялась маленькая Азра. Я спал и не видел больше во сне ни демонов, ни ангелов. Я спал, и мне было спокойно.
Вы смотрите на жизнь как на череду дел, на перечень возвышенной игры чувств, великих свершений, великих злодейств и мелочной осторожной трусости, переходящей в житейскую мудрость. Жизнь, история, события прошлой недели, а также будущее — для вас — каталог результатов точных расчётов или наоборот — промахов и ошибок, нагромождение фактов, басен, баек и анекдотов, исполненных смысла для извлечения уроков, постепенного исправления нравов, смягчения сердец и благостного труда. Жизнь для вас — это как бы преумножающийся клад, капитал опыта, кладовка рачительного хозяина, куда он тащит ценное барахло и припасы, вечно ожидая то ли суровой зимы, когда пригодятся мешки с бобами, орехи, сушёные груши и колбаса, то ли ожидая наследников, которых он замучает своими знаниями жизни и положительными примерами. Некоторые наиболее смелые не станут строить вавилонскую башню подвигов, поднимающих их на небесную высоту, наиболее смелые станут рыть внутрь своей чёрной души колодец бесконечной глубины, вавилонский колодец, ведущий к самым адским безднам сознания, к сатанинскому пламени ненависти, алчности и зависти, к мраку холодной логики и страху перед пауками. Будут черпать из вавилонского колодца адское пламя железным ведром на длинной цепи.