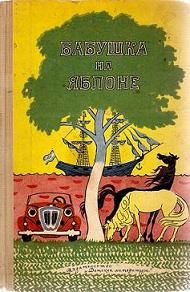Пит Рушо - Итальянский художник
и ведь не спрячешься, эта дребедень повсюду. А хочется взглянуть просто так. Изумиться. Не найти слов. Помолчать. Для этого, конечно, вот ради этого, стоит хоть однажды умереть.
Анконский пожар стал вынужденным началом нашего путешествия в Африку. Теперь мы снова были бездомны. По ночам в небе стояла комета.
Мы дали крюк, через Римини и Феррару добрались до Флоренции, где распрощались с Кефаратти, и поехали в Геную, где погрузились на корабль и вскоре отплыли, воспользовавшись благоприятным ветром.
Мы оказались в Сурте на сороковой день пути, и море успело нам изрядно надоесть. Наш корабль назывался «Пилигрим», плохо слушался руля и имел крен на левый борт из-за неправильно закреплённого груза. К нашему тихоходному «Пилигриму» часто вплотную подходили турецкие и венецианские галеры, разглядывая нас с пристальным любопытством. На корабле всюду были расставлены ящики с песком, чтобы можно было посыпать палубу перед боем. Команда фаталистически равнодушно относилась к врагам и верила в покровительство высших морских сил. Талисманом корабля была деревянная нога кока, ей оказывалось почтение, и я знал, что матросы носили в ладанках щепочки, незаметно от неё отковырянные. Нога приносила удачу. Экипаж «Пилигрима» был ужасен. Матросы, говорившие между собой на смеси всех языков мира, кичились дикостью, блистали залихватскими ухватками и пытались поразить богатых пассажиров, то есть нас с Азрой, своими голыми татуированными торсами. Тела были самые разные: волосатые, чёрные, жёлтые, со следами оспы и покрытые шрамами. В команде было восемь одноглазых матросов, кок с протезом и престарелый лоцман, заросший бородой от глаз до колен. Бородатому лоцману когда-то прокусили горло и повредили голосовые связки, отчего он говорил писклявым фальцетом. Прозвище лоцмана было Рапунцель. У капитана были ржавые железные зубы, он чистил их наждаком и смазывал курдючным салом. Капитан был ленив и немногословен, носил шпагу под мышкой, никогда не вкладывая её в ножны. Команда любила его.
Азре на корабле нравилось, она лазила по вантам и подружилась с канониром — ужасным малым в турецкой феске, простреленной пулей. Канонира звали Джафар, он души в Азре не чаял и подарил ей раскладной ножик размером с полено. Азра была в восторге и училась кидать нож в дверь нашей каюты.
Я же к исходу третьего дня мечтал уже прикончить капитана, захватить корабль, команду выбросить за борт, а из татуированной шкуры боцмана сшить себе домашние тапочки.
Сороковой день нашего плавания был вынужденным, Мисурата встретила нас неприветливо, выслав навстречу «Пилигриму» дюжину лодок с головорезами. Копья, алебарды и багры торчали над ними густым молодым лесом. Мы переложили курс, обстреляли из пушек эти лодки, а также заодно город и корабли, пришвартованные у пирса. Артиллерия в порту ответила нам нестройным залпом, и мы покинули эти места, ещё на сутки потеряв ливийскую береговую линию из виду.
Всё. Я возвращаюсь домой, кричат цикады, мерцает в дальней дали пастушеский костер, где-то возле арпинской излучины дико каркает выпь, и пищат летучие мыши. Лючия-Пикколи засветила лампы, накормила меня ужином, нагрела воды для умывания и постелила постель. Я быстро заснул. Мне снилась Африка.
Африка в моем сне была ужасна всеми соблазнами ада. Над Африкой моего сна стояло черное небо, подпираемое черными базальтовыми скалами. Солнце из расплавленного белого кварца тяжело колыхалось жаром в песочном воздухе. Алебастровые мухи падали с неба как град и хрустели под ногами. Во сне мы с Азрой шли по пустыне три года, и солнце ни разу не опустилось за горизонт. Толстая змея была нашим проводником. Потом солнце обвалилось с неба и потухло. Мы с Азрой отправились искать место, куда оно упало. Ночь перекатывала над нами щебень каменных созвездий и песок млечного пути.
Мы прибыли на праздник шаманов. Горели красные костры, били барабаны. Бах, бах, — невыносимо громко, до глухоты, до слез в глазах. Азра пошла танцевать, а я стоял и не мог двинуться с места, чувствуя во сне, как у меня немеет нога.
Поселился бы в Африке, жил бы в Африке всегда. Бросил бы всё, охотился на бабуинов, ел бы из кокосовой миски толченый банан. Женился бы на веселой черной девушке: белые зубы, розовые пятки — был бы счастлив. Только бы не помнить ничего. Жевать стебель буку-буку и поклоняться дереву чомба, стать мудрее. Турунὸ? Батам туруно! Собаку себе завел бы, лохматую, здоровенную. С такой собакой обнимешься — вся печаль пройдет. Африка! В Африке много песка. Во сне я забыл, почему много песка — это хорошо. Много песка, немеет моя нога. Не могу пошевелить этой ногой, весь я неподвижен, как бывает только во сне. Не могу закричать. Стою столбом, не могу сдвинуть свое пустое тяжелое тело. Красные костры, бух, бух, — танец раскрашенных людей, танец деревянных поплавков, Азра танцует вместе с ними. Она уходит всё дальше, мне страшно, ужас охватывает меня.
Пыль вздрагивала от грохота барабанов, колыхались, подпрыгивали фигуры в страшных масках, лучи закатного солнца высвечивали в красных облаках тени танцующих колдунов, звякали ракушечные браслеты на босых ногах, пахло кровью, липкие синие мухи слетались на жертвенное мясо белой коровы, и прозрачный жёлтый жир капал в тусклое пламя костра. Двигались раскрашенные тела, клыкастые деревянные маски щерили рты, в наступающей темноте разгорались костры, барабаны гремели, заглушая выкрики и вздохи. Вождь в джутовой накидке, с телом кабана, кружился не останавливаясь в середине площади, и двенадцать барабанщиков, мокрых от пота, отбивали ритм его пляски. Душный вечер, нестерпимая жара, пыль, вопли танцующих, барабаны — всё слилось в густой морок. У меня кружилась голова и болел затылок, я напился какой-то тёплой бурды из деревянной миски.
Зачем мне это? Сюда ли я попал? Что я делаю в этом теле? Ведь вы уйдёте. Уйдёте. А я останусь. Земля не отпустит меня. Мои ли это руки? Лабиринт пустоты, ты свободен посреди наваждения и мрака. Хоть бы дудочка какая-нибудь, хоть платье в цветочек. Ничего нет. Кем я был сегодня утром? Ночь, серое небо. Три чёрные летающие ведьмы схватили Азру и утащили с собой. Я не смог ничего сделать. Они похитили мою дочь.
Это и было самое страшное в моей жизни — эти три чёрные ведьмы, летящие с Азрой в цепких лапах. А кругом били барабаны. Над пламенем костров, над барабанами, чёрные ведьмы улетают высоко-высоко и скрываются в непроглядном небе. Они украли мою дочь, а я не могу даже закричать. Я не в силах ее вернуть. Наш проводник — толстая змея приводит с собой демона; он огромен, на голове его длинные изогнутые буйволиные рога.
Демон слеп. Он заглядывает в глаза шаманов, но все глазницы пусты, там нет ничего, кроме песка. Демон говорит, что сможет отнять у колдуний мою дочь, если я дам ему свой глаз. Глаз ему нужен, чтобы творить свое страшное зло. Я был готов отдать ему душу или что-нибудь такое, про что мы до поры мало знаем. Что-нибудь важное, но неопределённое. Пожертвовать честью, вечным блаженством, которое ещё как знать как обернётся? Пожертвовать душой — куда ни шло. Но как отдать глаз? Давай, — кричит он, — отдай его мне! Я вырываю у себя левый глаз, это больно, я теряю силы, голова кружится. Толстая змея вставляет мне вместо глаза гладкий черный камень. Рогатый демон берет у меня глаз, я чувствую жар его руки. Он вкладывает мой глаз себе, и я начинаю видеть всё, что он делает. Демон улетает. Я вижу страшную смерть трёх чёрных ведьм. Демон приносит мне спящую Азру. Не буди её, — говорит он, — она проснется сама. Шаманы исчезают, перестают громыхать барабаны, гаснут костры. Я сижу, склонившись над спящей Азрой, и плачу от счастья. Она спасена, она спасена. Азра просыпается утром прямо на берегу моря.
Теперь у рогатого демона был мой глаз. Он приладил его себе, и я каким-то образом продолжал видеть этим бывшим глазом. Я оставался вроде как самим собой, но видел всю жуткую жизнь этого рогатого существа, как будто я был им тоже. Теперь я мог видеть день за днём его бесчисленные кровавые злодеяния, его одинокие блуждания среди камней, мерзостные обряды его повседневности. Мне тошно во сне, я не хочу ничего этого знать. Бежать отсюда. Спасите нас, добрые волны.
Мы покидаем Африку. Прощай, Африка! Прощай!
На корабле мне было спокойнее, но я всё равно не спал. Я лежал на палубе, смотрел в небо и видел при этом, как рогатый душегуб расправляется со своей очередной жертвой. «Хорошо было бы ничего этого не знать. Никогда не думать о том, что творится в эту минуту. Хорошо было бы сейчас спокойно думать о полутонах, рефлексах и бликах, размышлять о молодых листьях винограда, пропускающих утренний свет. Да. Утренний туман, незрелые мелкие зелёные гроздья с голубоватым налётом в мелких крапинках росы», — думал я и видел совсем другое. Ни есть, ни спать я не мог. «Это не я, это не я! – хотелось кричать мне, но я молчал, — не я творю все эти ужасы, а тот, рогатый!» Зачем я отдал ему глаз? А мог бы я поступить иначе? Не я выбирал то, что мне предложено было выбрать. Совесть моя больше не существовала. Ничего не уцелело. Рухнул мир былой наивной благости, хоть я и считал себя совсем недавно серьезным человеком с принципами и заслугами. Пустота и тошнота — вот всё, что я чувствовал. Я видел Азру, она сидела на борту и швыряла апельсины в воду. Я заставил себя думать о ней, что она жива. Но в сердце был противный холод и скука. Выхода не было.