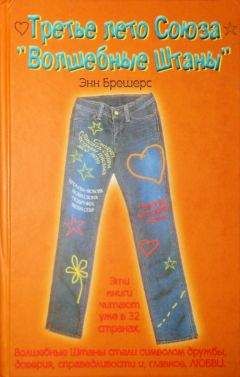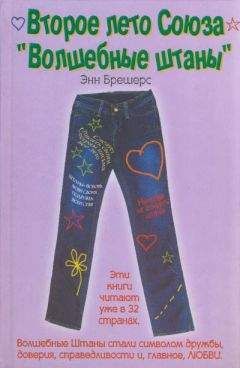Лидия Чарская - Солнце встанет!
Мощно и гневом повеяло от всей хрупкой фигурки девушки, когда она произнесла эти слова. Явная решимость отразилась на ее лице, освещенном сиянием месяца. И рабочие поняли это. Поднялся гул, в котором можно было разобрать только:
— Неладное дело затеяли, братцы… смертное, уголовщина! Барышня права… Зачем народ убивать?.. Кому охота тундры топтать в Сибири?.. Идем-ка подобру-поздорову… От греха дальше…
— И то идем. Место здесь точно нечисто. Недаром молва идет про усадьбу-то. Ну его к шуту, Брауна… Выгнали — и делу конец… Аида, братцы, домой!
— Черти! Дурни! кого слушаетесь, дьяволы? Да она — его люб… — прокричал было и сорвался голос Анны: Кирюк увесистой ладонью закрыл ей рот.
— Про барышню нашу не смей так! Харю сворочу, если про барышню… Святая она, Лидия Валентиновна! Слышишь, не тебе чета! — произнес он сурово.
Бобрукова хотела ответить что-то, но толпа увлекла ее за собою.
Комнаты «Старой усадьбы» опустели. Рабочие бесшумно, точно сконфуженные чем-то, вошли на крыльцо, сошли в сад и двинулись по дороге…
Лика и Гарин снова остались одни. Точно свинцом налитые ноги Лики не могли двигаться следом за толпою. Она стояла, опираясь на косяк двери, де отрывая взгляда от Гарина, словно чувствуя, что в последний раз видит его, а потом, сделав над собой невероятное усилие, проговорила:
— Я ухожу, Всеволод. Прощайте. Мы — люди разных полюсов… Иначе быть не может. Страна рабов и господства — ваш несокрушимый идеал навеки… Мой девиз — жизнь за серых братьев. Прощайте! Мы не увидимся никогда больше!
Она с усилием подняла руку и протянула ее князю. Но он не принял руки… Он посмотрел на нее безумными глазами и глухо произнес:
— Ложь! Ложь! Мы увидимся снова. На горе себе вы спасли меня, Лика! Не протягивайте же мне руки! Мы — враги, да, враги, и все силы моей души я направлю на то, чтобы победить моего злейшего врага — вас, Лика! Любимого, безумно любимого врага, — добавил он тихо и вдруг снова произнес убежденным, пророческим голосом: — да, мы увидимся. Но Герман Браун исчез навеки. Князь Всеволод Гарин выступает вашим врагом отныне и рано или поздно победит вас, непобедимую!
Вдалеке пронесся звук колокольчика.
— Это Сила возвращается с пристани. Он ездил в город, — вздрагивая, прошептала Лика и снова последним прощальным, движением протянула руки к князю. — Одно слово! Всеволод! — прошептала она, — одно слово пред разлукой навсегда.
— Оставь их, иди со мною! Они родились для рабства, труда и нужды в угоду избранным! Оставь их! Ты — дитя праздника и солнца! Идем со мною! — произнес над ней тяжелый, металлический голос.
И снова черные глаза жгли ее своим взглядом. Она снова теряла силу под ним а звуки бубенцов становились все слышнее со стороны дороги…
— Нет! — крикнула Лика, отталкивая князя, — никогда! Мое солнце будет тускло и мертво, если над ними не встанет оно яркое, золотое! И оно встанет:… Народ вздохнет свободно под его лучами и вы, «избранные слепцы», о, как пожалеете вы то время, когда не понимали этого серого мира.
— Ты бредишь, дитя! Оставь свои грезы, пока не поздно… Ведь, ты любишь меня! — снова залепетал ей на ухо страстный голос.
Лика замерла на минуту под тяжелым, упорным, магнетическим взглядом князя.
«Уснуть… забыться… отдаться ему навеки и черпать блаженство без края, без конца! — мелькала где-то внутри нее, задурманенная мысль. — А те? Твои братья? Что скажут они? Предательницей, изменницей ты будешь перед ними!» — властно заглушая все остальное, поднялся трезвый голос со дна ее души.
— Прощайте, Всеволод! Я не могу быть вашей! — вырвалось из груди Лики и, выскользнув из рук князя она, как безумная, метнулась на крыльцо, оттуда в сад и на дорогу, прямо навстречу заливающимся во весь голос бубенцам.
— Сила! Сила! Спаси меня! — простонала Лика и неслась навстречу летевшей по дороге брички.
Через минуту-другую она сидела уже подле на смерть испуганного Строганова и передавала ему все случившееся на фабрике и в «Старой усадьбе». Ни одним словом, конечно, не обмолвилась Лика о том, что Всеволод Гарин и управляющий Браун были одно лицо. Тайна Германа Брауна была ее тайной, которую она схоронила в своей душе навеки.
XVI
— Моя! Моя! Моя! — живая или мертвая, но моя на веки! — глухо произнесли запекшиеся губы черного человека, в то время как светлое платье Лики мелькнуло ему через окно.
Потом он провел рукою по волосам и медленной, усталой походкой переступил порог роковой для него комнаты, миновал коридор, кухню и через заднее крыльцо спустился в сад. Там на конце его своим единственным оконцем, зловеще сверкавшим в лучах луны, глянул высокий бельведер.
Князь прибавил шага и очутился у входа, заслоненного приставною дверью, давно сорванною с петель. Он отшвырнул ее ногою, как ненужную ветошь, и она тяжело рухнула в море лопуха и крапивы, густо разросшихся в этом пустынном уголку. Сыростью и затхлостью пахнуло на Гарина, когда он вошел в крошечную, сырую, похожую на каморку, комнату, всю залитую таинственным светом лупы.
На деревянной скамье лежала крошечная фигурка.
Гарин быстро подошел к ней, опустился на колена и глянул в красивое мертвое личико.
Черты Ханы еще не успели заостриться. Обычно узкие глаза как-то увеличились у мертвой и с явным вопросом смотрели прямо в лицо Гарина. Ему показалось даже, что вот-вот сейчас откроется помертвевший ротик и Хана спросит его:
— Это — ты, Гари? Наконец-то, ты! Не правда ли, ты пришел, Гари, милый?
Сознание вернулось к ней здесь в бельведере за минуту до смерти. И она узнала его, обрадовалась и заплакала, и засмеялась, и, трепеща, как птичка, в своей предсмертной агонии, шептала ему слова любви и умерла, как птичка, прижавшись к его груди.
Что-то похожее на жалость закопошилось и заныло в груди князя.
Эта мертвая женщина-малютка любила его бесконечно, любила покорною, рабскою любовью купленной собственности, и все же любила. Она не перенесла его серьезной измены, потеряла рассудок, потеряла и самое жизнь ради своей любви… Зачем он погубил ее, эту минутную свою прихоть чисто животного мужского влечения? Зачем увез ее от лотосовых нив и садов царственных хризантем ее священного Дай-Нипона? Маленькая гейша умела любить не на шутку и свою жизнь отдала за своего Гари. Сердце князя заныло острее.
Он быстро наклонился к Хане и взглянул в ее мертвое лицо. Теперь он ясно видел, что мертвое лицо улыбалось.
Князь не был суеверен, но оставаться наедине с мертвой вдали от всего живого было слишком тяжело. Он поискал глазами вокруг себя и увидел в углу каморки сложенные орудия для сада, когда-то оставленные здесь при прежних владетелях. Вид лопаты дал новое направление его мыслям.
— Надо похоронить ее! — произнес он, а затем взял лопату, тяжелую и неуклюжую, и, держа ее обеими руками, вышел из бельведера.
Между лопухами и крапивой он отмерил пространство и быстро-быстро стал рыть могилу. Выкопав яму в аршин глубиною, князь снова вошел в бельведер и, осторожно приподняв со скамьи мертвую Хану, вынес ее в сад и положил на краю могилы. Потом он быстро склонился над ней и заглянул в последний раз ей в лицо. Положительно, мертвое лицо Ханы улыбалось как живое.
— Бедная крошка! — произнес князь, и, не отдавая себе отчета, быстрым поцелуем прижался к губам маленькой японочки.
— Гари! Гари! Гари!
Он еще раз бережно приподнял ее, опустил в черную яму и, нарвав лопухов и крапивы, усыпал ими тело покойницы.
«Прощай, маленькая завядшая роза Японии! Прости меня, бедное дитя!» — прошептал он чуть слышно и стал быстро, быстро набрасывать комки рыхлой земли на мертвое тело.
Скоро яма сравнялась с землею. Князь утоптал землю, далеко отшвырнул от себя лопату, отер крупные капли пота, выступившие у него на лбу, и, опустившись на колена, произнес глухо:
— Спи, бедная птичка! Спи, моя крошка, единственная женщина, любившая меня беззаветно! Не белые лотосы, не царственные хризантемы покроют твою могилу, а снежные сугробы запушат твою северную могилу и вопль метелицы будет баюкать твой вечный сон. Прости мне это, Хана, прости, что не верну родине твой бедный прах, восточная милая птичка! — Потом он простер руку по направлению Нескучного. — Одною из помех стало меньше для нашего союза, Лика! — проговорил он с насмешливой горечью. — Теперь остается победить последнее препятствие, вырвать тебя из рук тех, кому ты отдалась в своем заблуждении. И рано или поздно я добьюсь этого!
XVII
Фабричный гудок звонко прорезал свежий сентябрьский воздух. Что-то веселое слышалось в этом привете, посланном огромной трубой навстречу первого утренника.
Несмотря на расстояние трех верст, казалось, что гудок был тут же рядом, в Нескучном. Лика проснулась от этого звука. Она плохо спала ночь. Она мало спала, впрочем, все это время с той роковой ночи, которая бросила снова на ее пути странного, властного человека, унесшего ее сердце. Были минуты, когда Лике хотелось кинуться к Силе и рассказать ему все: свое вновь воскресшее влечение к Гарину, свою вновь вспыхнувшую любовь к нему. Но тут же здравый смысл удерживал ее от этого. Выдать князя значило его погубить. Человек, скрывающийся под чужим именем, является уже преступником пред законом. К тому же этот человек не был вполне чужим душе Лики; ее влекли к нему болезненная склонность сердца, безумием навеянное чувство, ее сковывала власть этих магнетических глаз. И только теперь, когда они не сверкали пред ней, ей не так душно, не так тяжело. Но, появись он снова, и снова путы, тяжелые, как свинец, скуют ее душу. Рассказать все Силе значило сбросить в беспросветную тьму этого доброго, совершенного, безупречного человека. К тому же Лика не знала даже, кто из двоих дороже ей: князь или Сила. Князь, притягивая к себе все существо девушки, наполнял в тоже время ее ум ужасом своих взглядов, воззрений, принципов. Сила не то: Сила — ее брат по духу, брат по родству с человечеством. Она твердо знала, что общее дорогое дело, захватив их обоих, сблизит их.