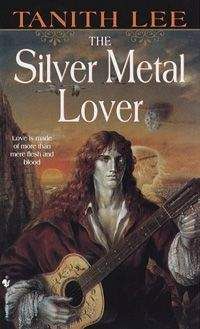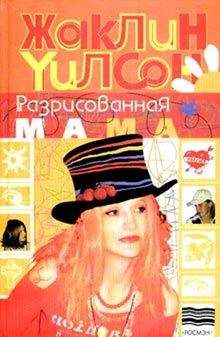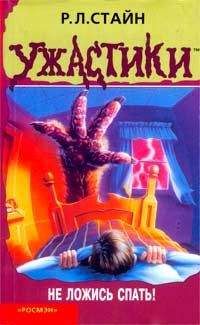Василий Авенариус - Поветрие
— Наденька, с нами крестная сила! — перепугалась Бреднева и принялась поднимать ее.
Глаза бедной студентки закатились, у рта выступила пена. Лодка, вынесенная между тем на гребнях двухсаженных волн под самый мост, с силой ударилась о гранитный бык. Раздался треск разбивающихся досок, пронзительный крик Бредневой: — Помогите! — и судно вместе со своим экипажем поглотилось разъяренной влажной бездной.
На набережной толпилась вокруг городового и извозчика кучка любопытных.
— Бона, слышали, вашество? — толковал ванька. — О помочи кричат. Беспременно они-с.
— Леший бы их побрал… Нашла бабья одурь! — ворчал блюститель общественного порядка. — Чтоб им!.. Тут под спуском должна быть лодка.
Толпа повалила к спуску. Кто-то отделился и сбежал по ступеням.
— Ни души! — откликнулся он снизу.
— И лодки нет?
— И лодки нет.
— Ну, так поминай как звали, пропали мои денежки! — почесал в затылке извозчик.
В это время на глазеющих налетела с хриплым лаем косматая собака. Вслед за нею подбежал юноша лет пятнадцати, в легком домашнем сюртучке, в гимназической фуражке.
— Что тут такое? — осведомился он задыхающимся голосом, трясясь от волненья и холода.
Страж с достоинством оглянул его.
— Девчонок пара топиться вздумала, — нехотя дал он ответ.
— Так что ж вы стоите, как истуканы! Достать багров! Да нет ли поблизости лодки?
Оживленность гимназиста сообщилась прочим; все засуетилось. Несколько минут спустя, у ближнего садка было отвязано два ялика; в один из них первым прыгнул гимназист.
— Отчаливай, братцы! Проворней!
Взлетая и погружаясь, ялики взапуски перерезывали темную зыбь в направлении к мосту.
— Вон словно что вынырнуло… Никак рукав?
— Рукав и есть,
— Подъезжай. Вот так. Зацепляй багром, багром зацепляй, да легче, братец, легче, не изранить бы, сохрани Господи.
Общими усилиями было вытащено в ялик бездыханное женское тело. С трепетом неугасшей еще надежды поднял гимназист мокрую голову утопленницы и заглянул ей в лицо.
— Наденька! — разочаровался он. — Тут должна быть еще одна…
— Другие отыщут, — был ему ответ, — эту бы до-преж всего привести в чувство.
— Да то сестра моя! — умолял со слезами на глазах молодой Бреднев.
— Мало ли чего! И эта, может, чья-нибудь да сестра. Валяй назад, к берегу! Дружно!
Ялик причалил к спуску. Десятки рук протянулись принять выловленное тело.
— Эвона, какая грузная! Откачивай, братцы, даст Бог, очнется.
Пока откачивали несчастную студентку, Бреднев мчался уже, как окрыленный, к соседнему спуску, откуда доносилось жалобное завывание пса, мелькали огни, раздавались клики:
— Тащи ее, тащи! Ну-ж, поминай как звали! Шабаш. Как есть дерево.
С отчаяньем кинулся юноша к распростертому на камнях трупу сестры — и отшатнулся: он глянул в страшно искаженные черты, в тусклые, стеклянные глаза покойницы.
— Нет, уж тут взятки гладки, — говорили, с соболезнованием кряхтя и отдуваясь, окружающие. — Мертвец мертвецом. Господь да успокой ее грешную душу!
XXI
Эка жизнь с бабой-то хорошей!
Когда я теперича с тобой сам друг, так мне хоть все огнями гори!
А. ОстровскийДо настоящего времени своенравная владычица человеческого живота и смерти — всемогущая судьба обошлась с Ластовым довольно милостиво. Теперь принялась она исподволь подливать ему в сносно-сладкий кубок жизни капля по капле горькой полыни, чтобы сразу не ошеломить его полной чашей одурительной горечи, которую приберегла ему под конец.
Однажды в сумерках Мари присела к своему милому, стыдливо припала к его плечу и робко прошептала:
— Левушка, друг мой, ты не рассердишься?
— А что?
— Да видишь ли… скрывать уже невозможно, теперь нас двое, а скоро будет трое…
Невольно скорчил Ластов гримасу, но тут же обнял «жёночку» (как называл он теперь Машу) и расцеловал ее.
— Так ты не сердишься на меня, добрый, хороший мой?
— Не имею никакого права сердиться. Не сам ли я всему виною? Да, наконец, дитя наше еще неразрывнее свяжет нас. Я рад, очень даже рад.
Несмотря на сердечность, которую молодой человек старался придать своим словам, в голосе его прорывалась нота грусти. Мари подавила вздох и отерла тайком слезу.
Замечательно, что редкие из молодых мужей не исполняются тайного страха при первом женином признании вроде вышеприведенного. Главным мотивом подобного страха служит, по большей части, нелишенное глубокого основания предчувствие, что за этим первым детищем неминуемо последует еще длинная вереница голодных крикунов, обуза содержания которых, естественным образом, взвалится исключительно на его, отцовские, плечи. Но порыв первого неудовольствия вскоре уступает место неусыпной заботливости о благоденствии родоначальницы своего будущего потомства.
То же было и с Ластовым. Покуда не было помину о ребенке, он все еще словно надеялся на что-то, что-то лучшее. Теперь обманчивый туман сомнений рассеялся, действительность предстала в полном свете дня: его узы с молодой швейцаркой окончательно закреплялись, благословлялись дитятей; круг частной, семейной его жизни обрисовался в совершенно явственных формах; оставалось только примениться к этим формам, заставить себя влиться в них всем своим существом, отождествиться с ними, чтобы, при малейшем движении, не ударяться о выдающиеся углы.
Найдутся, может быть, читательницы, которые обвинят нашего героя в непостоянстве, в ненасытимости, на том основании, что сам исполнившись раз, под влиянием истинной, глубокой любви Мари, неподдельного к ней расположения (глава IX нашего рассказа), он тем не менее мог еще мечтать о замене ее другою. И, Боже мой, сударыни! Да разве он не имел перед собою, в лице Наденьки, девушку, которая во всех отношениях могла перещеголять скромную швейцарку? К тому же он был еще когда-то влюблен в нашу студентку… Явись к вашим услугам новый Гарун-аль-Рашид, мы убеждены, всякая из вас, как бы счастлива ни была она, нашла бы еще кое-что, что могло бы, по ее мнению, усугубить ее счастие, и повернула бы она вверх дном все свое доселешнее житье-бытье. Так уже устроена человеческая натура: как организму нашему непрерывно необходима материальная пища, так и дух наш требует постоянных возбудительных средств; инерция усыпляет, убивает его. Без всякой надежды на что бы то ни было плохо жить на белом свете!
Ластов же, потеряв последнюю надежду на соединение с Наденькой, нимало не лишился еще оттого всех ожиданий на лучшее будущее: не говоря уже о манившем его в туманной дали поприще профессора, воспитании собственного поколения и многом другом, в самой Мари открывал он что день новые достоинства, или, вернее: она умела постоянно разнообразить себя и этою вечною новизною прельщала и привязывала его все более к себе.
«Да чем же я не первый счастливчик в мире? — говорил он сам себе. — Такая хорошенькая, свеженькая, ласковая жёночка, только мною и живет, обо мне одном печется… „Счастье, — говорит Тургенев, — как здоровье: оно есть, если мы его не замечаем“. Неправда! Я замечаю все свое счастье, замечаю, какой клад обрел в своей Машеньке. Без сомнения, ей, как кровной швейцарке, несмотря на все ее старания, не удалось еще вконец обрусеть, исполниться живого сочувствия ко всем насущным интересам новой отчизны; конечно, не лишне было бы ей и несколько основательнее образовать себя; но ничего еще не потеряно, все может устроиться: как сдам только зимою свой магистерский экзамен, так на воле займусь с нею. И будет у меня подруга жизни, лучше которой по всей Руси со свечкой не сыщешь, будут у нас детки — такие же славные, как мать… Между тем что ж? Доныне я не признаю ее в глазах света равною себе, достойною себя!.. Что, в самом деле, кабы?..»
— Машенька, да или нет?
— А ты приятное для себя задумал?
— Приятное.
— Так, разумеется, да.
— Ты полагаешь? Но все же надо будет еще обдумать, Машенька, серьезно обдумать.
— Да о чем речь, милый ты мой? Ведь ты мне еще ничего не объяснил.
— Много будешь знать — состаришься.
Напрасно зоркие, черные глазки Маши пытались разгадать таинственную думу, осенившую высокий лоб милого; милый молчал, а она приняла за правило никогда не надоедать ему расспросами.
Со дня же рокового признания Мари Ластов еще любовнее привязался к ней. Если при возвращении его домой Маша не выбегала к нему навстречу, в переднюю, он изумленно оглядывался, точно забыл что и не может припомнить. Если во время его занятий она не обреталась где-нибудь поблизости, на диване, на соседнем стуле, за обычным теперь шитьем — рубашечек, чепчиков, свивальников, — он, как бы не в своей тарелке, беспокойно поворачивался в кресле и не был в состоянии хорошенько вдуматься в предмет. «Жёночка» его сделалась для него приятною необходимостью. Уходила ли она со двора, он непременно удостоверялся всякий раз, тепло ли она одета, обута; но это не была заботливость о балуемом дитяти, это было скорее благоговение идолопоклонника перед дорогим пенатом: он стал уважать в ней мать своего потомства. Раз как-то попалась ему на улице чужая женщина, походка округлость тела которой изобличали также благословенное ее состояние: с безотчетным почтением посторонился он с дороги, хотя принужден был при этом ступить чистою калошей в грязь.