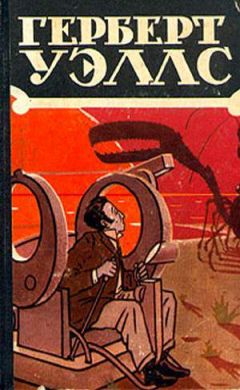Анатолий Ткаченко - Мыс Раманон
Могу признаться: трудно я пережил это. А ведь я военный, отец у меня был партизаном, погиб в войну, мне стыдно за свою излишнюю чувствительность. Но, милая Надя, если у вас в Калуге есть кони, найдите хоть одного, потрогайте его жесткую гриву, загляните в диковатые грустные глаза этого вечного работяги, и вы поймете меня. Всего вам доброго!
Лейтенант Петрухин».Зимой здесь всегда сыплется снег — в любую погоду, ночью, дном. Он из самого воздуха: влага поднимается от моря, холодеет вверху, сворачивается и сыплется на землю снегом. Здесь всегда чисто, бело, вулкан первозданно, лунно вздымает в небо синие грани.
Петрухин прыгнул с крыльца, по твердой тропе пробежал до казармы, сделал несколько приседаний; поддев ладонью влажный снежок, докрасна растер руки и грудь. Запрыгал, фыркая и задыхаясь. Вышел Манасюк, усмехнулся, сморщился от яркой белизны, и Петрухин вспомнил ночные выстрелы.
— Старшина! — крикнул, перестав прыгать. — Готовь лыжи. Сказку пойдем ловить. Обещал!
После завтрака они натянули спортивные брюки и свитеры, стали на лыжи и пошли в конец села, к дому колхозника Козолькова. Хозяин расхаживал по двору, поднимал, ладил поваленные жерди забора. От стога сена осталось темное пятно на снегу да разметанные клочья вокруг двора.
— Вот,— сказал Козольков,— беда, начальники! Без кормов остался. — Помолчав, хлопнул рукавицей о рукавицу, полез за табаком. — Хуже нет на краю проживать. Как глыбкий снег, они меня обирают.
Козольков — в полушубке, толсто подшитых валенках, собачьей шапке. Он, видно, не из крепких хозяев, не из горячих работников. И сенцо-то свое небось с трудом по осени наскреб. Жаль стало Петрухину лохматого мужичка: «Вот уж точно — где тонко, там и рвется!» Решил с председателем поговорить — пусть помощь окажет.
— Пальнул жиганом в черноту, — рассказывал Козольков, — Утром выбег, смотрю — кровища. В кою-то конягу попал...
На истоптанном копытами снегу каплями, лепешками заледенела кровь: мутная, припорошенная снегом. Разбросанно, пропадая, она тянулась через пустырь и дальше — по санному следу за поселок.
Вышли на дорогу, не торопясь заскользили к лесу. В мороси редкого снега плавали ближние холмы, деревья; море немо качало стылую шугу, над ним косо, скудно промелькивали чайки. Все было легким, почти неощутимым. Легко дышалось, легко струились лыжи, и, казалось, снежная земля чуть колышется на густой, мирной воде.
Бело-голубым столбом льда встал впереди водопад. По льду стекали струи, от них отлетал пар, и гранитные глыбы на берегу, огромный рыжий обрыв, деревья вверху обросли белым, тяжким мехом сырого инея. Водопад приутих, будто задремал в холоде, чуть ворочаясь и бормоча.
Здесь кони пили воду, был сильно вытоптан и забрызган кровью снег; в копытной ямке — тусклая лужица крови. Старшина тронул ее палкой. Кровь еще не застыла.
— Добьем конягу, а?.. — Старшина кивнул на распадок, куда, исчезая, втягивался широкий след табуна.
Сильно оттолкнувшись палками, Петрухин побежал к распадку, и с ходу, без передышки, они взяли крутой, рыхлый подъем. Остановились на голой горе. Тут почти не было снега; кони до черной земли выбили снег, съели траву и коренья. Зато дальше начинались заносы, сугробы лежали буграми, застругами. Частые ветры крутили, пересыпали снежный песок в этой пустой котловине.
След табуна уходил наискось, к лесу на отлогом склоне вулкана. Где-то там, в его обширных бурых трещинах, обитали зимой кони: возле дымящихся фумарол, горячих родников хранились клочки талой земли.
Отдышались, покурили. Пошли гуськом: впереди Петрухин — он был легче, скользил почти поверху, без «нырков»; позади Манасюк сопя утрамбовывал лыжню. Шли сбоку трудной дороги табуна, и было видно: кони проваливались по брюхо, передвигались прыжками, часто отдыхали — заледенели подтаявшие под животами ямы.
Уже четко различались голые ветви лиственниц впереди, когда Петрухин увидел на опушке леса табун. Кони стояли, плотно сбившись, над ними висел сизый дымок, спины мокро заиндевели.
В сееве снега, в глохлой тишине табун близко подпустил к себе. Заметив вдруг людей, всполошился, всхрапывая, ломая ветви и кусты, разом отвалил в лес. Посреди вытоптанной опушки остался рыжий конь; шея у него была вытянута, голова лежала на снегу. Прибавили шагу, пошли рядом и, прежде чем успели о чем-либо подумать, поняли: это Сказка!
Осторожно подступили с двух сторон.
Чутьем, слухом Сказка уловила тревогу, качнула головой, повела черным, зло вспыхнувшим глазом. У нее чаще заходили бока, нервно запрядали уши. Из горячечных ноздрей ударил в снег длинный выдох. На большее ее не хватило. Она замерла, и только пугливой судорогой передергивалась на боках кожа.
— Жеребая,— сказал Манасюк, коснувшись палкой живота, — жеребенок бьется.
Петрухин смотрел на жилисто вытянутую шею Сказки, полузакрытый глаз, на смятую огненно-рыжую гриву, мокрый, дымящийся паром круп, видел слепяще-яркое пятно крови возле передних ног и растерянно молчал. Ему не верилось — нет, нет... Вот сейчас Сказка вскочит, ударит копытами в снег, скроется за лиственницами. И незачем вовсе ее ловить, пусть живет на свободе, водит табун, пасется в бамбуковых долинах — на нее надо смотреть издали, приезжать и смотреть. Потом он вдруг понял слова старшины: «жеребенок бьется», подумал внезапно: «Умирает»,— и быстро сказал, слепо протянув руку:
— Дай винтовку!..
Ствол приставил к уху — вздрогнувшему, отпрянувшему. Глянув на вершины лиственниц, нажал спусковой крючок.
Выстрела он не услышал: просто охнул лес, осыпав с ветвей снег, далеко в горах грустно отозвалось эхо, и над лунно-чистым конусом вулкана косо завалился желтый серный дым.
— Поймали... — откуда-то издалека прозвучал голос старшины.
Вечером, Петрухин ничего не писал Наде.
ПИСЬМА ТОЛИ ВЕРНИКОВА
От Верникова редко приходили письма. Он был просто невежлив и, если это применимо к нему, невоспитан; на каждые мои два письма отвечал одним, коротким до смешного, и отвечал, когда ему вздумается, по настроению. Не раз я хотел бросить эту «одностороннюю» переписку и никак не мог — что-то подталкивало меня: надо писать, шевелить, надо заставить Толю отвечать. Ведь он же с «божьей искрой» мальчишка, это видно по его стихам, по тому, как живет, о чем думает. Надо ему помочь — у него трудная судьба, он мучается, бьется с бумагой один на один. И я писал: «Остров Кунашир, пос. Алехино, Верникову Анатолию». Просил прислать стихи.
В руках у меня его третье письмо. Уже на ощупь определяю: большое, по крайней мере для Толи. Разрываю конверт, и на стол падает сухой лист магнолии. На нем что-то нацарапано.
Присматриваюсь: «10 августа 195... года». Это время, когда я приехал на Курилы и познакомился с Толей. Нацарапано было на зеленом листе, лист высох, пожелтел, и буквы обозначились бело, четко. Развернул письмо — оно и в самом деле «протяженное».
«Здравствуйте, уважаемый...
На ваш стол сейчас упал лист магнолии. Я сорвал его тогда с того дерева, около которого мы сидели, говорили и сочинили легенду про магнолию, японку Ханако и айнского вождя Насендуса. Здорово, правда? Я никак не могу забыть это, а к легенде добавляю все новые «страницы». Я даже придумал — Ханако вернулась к айнскому вождю и спасла его в последнюю минуту. Так хочется, чтобы был благополучный конец. Но вы, знаю, не любите счастливых концов, не хотите все досказывать, так вам кажется «малохудожественно». А я ведь еще не писатель... Написал стихотворение «Магнолия». Видите, опять — магнолия. Посылать боюсь — слабо еще, поработать надо.
Живу по-старому. Выдаю мальчишкам книги, ругаю их за истерзанные переплеты. И читаю. Читаю повести и рассказы с приключениями и о других планетах. Только настоящие, без детектива. Еще нравится о спутниках и ракетах — это, наверное, всем нравится. У меня даже в «Магнолии»:
В чащобе недвижно и немо,
Но видеть умеет мой взгляд:
Бутоны, как выстрелы в небо,
С курильских магнолий летят.
И вот, если интересно... В нашем поселке все волжане, из одной деревни. И, конечно, знают о моем происхождении. Кто-то из теток опять «укорил» мать. Вы понимаете, как это умеют делать тетки. Пришла она, плачет, просит у меня прощения. Страшно. Я не выношу этих минут — кажется, я старею, глохну.
Она раз и навсегда решила, что виновата передо мной, и никакие мои слова не облегчают ее. Помните мое стихотворение? Я прочитал его матери. Она не поняла, сказала. «Вот видишь, тебе тяжко. А я хочу, чтобы они хоть тебя не трогали...» Как мне хочется покоя для матери! Может, уехать куда-нибудь?»
Дальше Толя писал о сельских новостях. Жена директора школы уехала в Моздок и не хочет вернуться на Курилы, говорит, что вулканы красивы, но она не любит, когда они дымят и трясут землю, ей рано под вулканический пепел. Пекариха выбила окна у поварихи: не поделили одного ухажера. Поросенок соседки угодил в горячий источник, в «каменную ванну», и, когда нашли его, — был готов: сварился, даже кожица потрескалась. С юга, от Японии, прошел тайфун, зацепил краешком Кунашир и «наломал дров»: на мысах повыворачивал деревья, в Алехине сорвал несколько крыш, унес волной все, что «плохо лежало». Кое-кто засобирался на материк, но выглянуло солнце, улеглось море — а оно здесь в тихие дни прямо парное, — и чемоданы снова были разобраны. Кончал Толя письмо шуткой: «Нет мира под магнолиями».