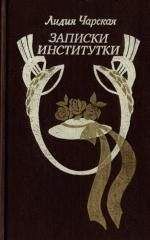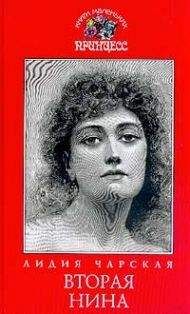Лидия Чарская - Люда Влассовская
В ту минуту, когда я готовилась вслед за Марусей подойти к Царским вратам, где мы ждали нашей очереди, последняя взволнованно зашептала, оглядываясь кругом:
— Где Зот? Где Зот, ради Бога! Я виновата перед ней! Уйти нельзя, — скоро моя очередь. Позови ее, Люда!
— Зот! Зот! Сюда! Скорее! — позвала я.
Зот, недоумевающая и встревоженная, подошла к нам.
— Ради Бога, Раиса, — прошептала Краснушка, не поднимаясь с колен, — прости меня… Я тебя во вторник за завтраком назвала дурой… Ты не слышала, а я назвала… со злости… Прости, облегчи мою душу.
В другое время обиженная девочка вспыхнула бы как порох, но теперь это было неуместно. И Зот облегчила душу Маруси, простив ей.
Они пожали друг другу руки (целоваться в церкви не допускалось), и Краснушка с просветленным лицом вступила за ширмочки.
Мы выпросили позволения у начальницы причащаться в самую заутреню.
Это было из ряда вон выдающееся событие.
Старшеклассницы, одетые в новые форменные платья и тонкие батистовые переднички, свеженькие и невинные, как лесные ландыши весною, одна за другою, смиренно сложив на груди крестообразно руки, подходили к Святой чаше, под пение пасхального тропаря. Потом нас окружило начальство, учителя… Мы христосовались с классными дамами, друг с другом, глядя на всех просветленными, добрыми, радостными глазами. Жизнь казалась нам светлою и прекрасною в эту минуту, как сладкий сон юности… А с клироса наши певчие, между которыми особенно красиво выделялся вполне сформированный голос Вольской, пели радостное, ликующее и звонкое «Христос Воскресе!».
— Monsieur Терпимов! Христос воскресе!
Я и Краснушка стояли против учителя, озадаченного нашим внезапным появлением и приветом, и восторженно ему улыбались.
Краснушка держала в руке прелестный голубой мячик, сделанный из шелка. Эти мячики заготовлялись у нас в громадном количестве к празднику Пасхи. Их подносили всем: начальнице, классным дамам, учителям и младшим, «бегавшим» за нами. Краснушка сделала голубой мячик Терпимову, я розовый — Козелло.
От мячика Маруси пахло какими-то очень сильными, бившими по носу духами, напоминавшими не то помаду, не то розовое масло. На лице девочки играла смущенная радостная улыбка.
Терпимов взял мячик, с внезапно вспыхнувшим румянцем наклонился к Марусе и, прежде чем опомнилась девочка, поцеловал ее дрожащие пальчики.
— Я возвращаю вам ваш поцелуй, mademoiselle Запольская, который я не заслужил тогда! — сказал он тихим, взволнованным голосом.
Маруся загорелась вся как зарево, быстро присела чуть ли не до полу, и, схватив меня за руку, смешалась с толпою институток…
— Счастливица, — узнав о случае на паперти, говорили наши, — учитель ей руку поцеловал!.. Настоящий взрослый поцеловал, а не юнкер Michel! И не Котя Мухин!
— Ах, если бы мне так же! — мечтательно произнесла Иванова.
— Ну куда тебе, душка! Вон у тебя и клякса чернильная на ладони! — серьезно произнесла Белка. — Такие руки не целуют… уверяю тебя!
— Mesdam'очки, разговляться! Разговляться к Маman, — послышались радостные голоса.
В квартире начальницы разговлялись только выпускные и «пепиньерки», остальные же классы — в столовой.
У Maman, в ее большой, красивой приемной расставили накрытые пасхальными яствами столы между громадными пальмами и фикусами, доставленными на этот торжественный день из придворных теплиц.
Девочки сидели вперемежку с начальством и учителями.
Хорошенькая Валя Лер едва прикасалась к еде, так как ее поместили рядом с ее кумиром — учителем танцев, изящным, высоким, но далеко не молодым красавцем Троцким.
Между мною и Краснушкой сидел Козелло, и мы наперерыв угощали его.
— Приходите, непременно приходите завтра на праздник! — молила Краснушка нашего молчаливого кавалера.
— Если успею, приду… В первый день Пасхи и отдохнуть не грешно бы.
— Так ведь это и будет отдых! Удовольствий-то, подумайте только: живые картины — раз, декламация — два, русский танец… тарантелла! Сколько всего разом! Мы целую зиму танцы готовили… А какую сцену в зале устроили, прелесть!..
Наивная Краснушка никак не могла понять, что до полусмерти уставшему за учебный сезон мученику учителю ни живые картины, ни тарантеллы, ничто другое не могли казаться соблазном. Девочки судили по себе… Завтрашний праздник, ежегодно даваемый по традициям института и ожидаемый ими чуть ли не полгода, представлялся им радостным, исключительно интересным событием.
ГЛАВА XIX
Живые картины. Морская царевна
Маруся сказала правду… Среди обширного институтского зала была выстроена сцена, отхватившая добрую треть громадного помещения. Мы с нетерпением ожидали вечера. В два часа к нам зашел танцмейстер Троцкий, приехавший с пасхальным визитом к Maman, весь сияя русскими и иностранными орденами.
— Барышни, не осрамите, — комически складывая на груди руки, молил он.
— Не ударьте в грязь лицом… Грации, грации побольше! Отличимся на славу! Обещаете?
— Обещаем, Николай Петрович, обещаем! — кричали мы.
— А главное — воздержитесь… не объешьтесь, пожалуйста, за обедом… Зеленые щи у вас, знаю, — продолжал шутить Троцкий, — щи, как помнится, не способствуют легкости.
— И поросенок заливной! — вскричала, облизываясь, подоспевшая Иванова.
— Стыдись, Маня. Обжора! Как не стыдно! — дернула ее за пелерину Вольская.
— Ах, отстань, — вспылила она, — есть не может быть стыдно! Вот вы разыгрываете воздушных фей с Валентиной, питаетесь для вида лунным светом и запахом фиалок, а по ночам они едят, Николай Петрович, ужас как едят, если бы вы знали! Недавно целую курицу собственную съели…
— То есть как это «собственную»? — не понял Троцкий, от души смеясь болтовне девочек.
— Так. Домашнюю курицу… из дома прислали… И ночью… Не смотрите, что они такие воздушные. Это только на взгляд!
— Маня, изменница, бессовестная! — злилась Лер, в то время как Вольская, с присущим ей одной тактом, добродушно смеялась вместе с другими.
В 7 часов вечера нас позвали в залу. В «зазальных» селюльках устроили уборные, где были развешаны костюмы, расставлены зеркала, частью собранные изо всех комнат классных дам, частью принесенные из квартиры начальницы. Там шныряли девушки-прислуги в новых полосатых, туго накрахмаленных платьях, пахло пудрой, духами и палеными волосами.
Девочки без помощи парикмахера завивали и причесывали друг друга.
— Ай! — вопила не своим голосом Мушка, доверчиво подставившая было свою черненькую головку щипцам доморощенного парикмахера Бельской. — Ты мне ухо обожгла!
— Pour etre belle, il faut souffrir![27] — послышался насмешливый голос Норы, собственноручно завивавшей свои белокурые косы.
— Вот еще, — разозлилась Мушка, — этак и пол-уха отхватят! Не хочу быть belle! Бог с ней и с красотою!
Но через минуту, успокоившись, она уже упрашивала отошедшую от нее Бельскую:
— Душка Белочка, подвей еще вот хоть этот локончик.
— А если опять обожгу? — язвила Белка.
— Ничего, Беленька, только подвей.
— А пищать не будешь?
— Нет, нет! Спасибо, душка!
Ровно в 8 часов приглашенный оркестр пожарной команды, с незаменимым дирижером Миллером во главе, проиграл торжественный гимн, сопровождаемый звонкими молодыми голосами институток.
Затем начальство, служащие и приглашенные гости заняли свои места, и занавес взвился.
Троцкий волновался совершенно напрасно… Тарантелла, исполненная шестью лучшими солистками нашего класса: Лер, Вольской, Мухиной, Рентоль, Муравьевой и Дергуновой, прошла мастерски.
Особенно хороша была Кира; ее полуцыганский, полуитальянский тип, ее гибкая фигурка и черные как ночь косы, в соединении с прелестным костюмом, делали ее настоящей итальяночкой. Она с неподражаемой удалью и огнем вела шеренгу из остальных пяти девочек, поблескивая и сверкая своими громадными глазами, полными восточной неги.
Тарантелла кончилась под гром аплодисментов.
Maman дала знак, и все шесть девочек скрылись за кулисами и через минуту стояли перед нею с блестящими от удовольствия глазами и зарумянившимися лицами. И почетные опекуны института, сидевшие в первом ряду, и учителя, и классные дамы, и остальные младшие воспитанницы наперерыв хвалили молоденьких танцовщиц.
Очередь была за мною и Краснушкой. Большей разницы в типах было трудно найти… Я — черная, смуглая, настоящее дитя «южной Украины», с моими «томными», как о них говорилось в институте, глазами, одетая в пышный алый сарафан и русский кокошник, расшитый жемчугом, с массою бус на шее, была полной противоположностью рыжекудрому быстроглазому мальчику в дорогом боярском костюме и собольей шапке, лихо заломленной на золотых кудрях! Но в этой-то противоположности и была неподражаемая прелесть. Троцкий отлично знал, что делал, подбирая пару.