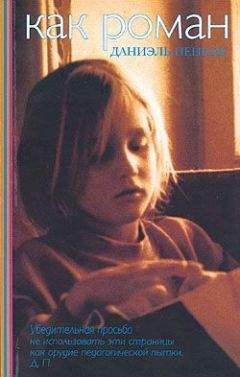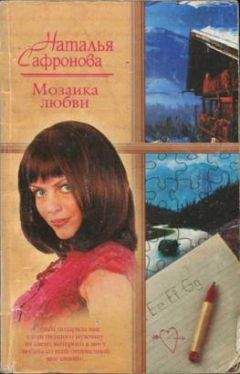Федор Кнорре - Оля
Вечером Володя, возвращаясь с работы в замасленном комбинезоне, шагал тяжёлой поступью усталого рабочего. Устал он вправду, но ещё ему и нравилось так шагать всей ступнёй, вразвалку, чиркая каблуками по тротуару — в точности как ходил механик Попрыкин, про которого говорили: "Он Наполеон и Македонский Александр насчёт двигателей внутреннего сгорания".
Невдалеке от будки проходной он увидел Олю и сразу бросился к ней лёгкой и быстрой походкой.
— Что? Что? — бестолково от волнения допытывался он. Прощаться? А? Уже… Когда..
— Да, прощаться…
— Когда прощаться?.. Сколько можно? Ну, ты говори…
— Мазаный ты, как трубочист! — Оля вытащила из кармана платок, послюнила и стала оттирать у него на щеке и на лбу мазки грязной смазки. — Чего сколько? Можем ещё походить и попрощаться. Отправить нас могут даже завтра, а точно неизвестно — с утра надо быть наготове.
— Значит, можно погулять? А куда нам идти?
— Как куда? На водную станцию. С ней попрощаться.
На водной станции не было ни души. Холодная и какая-то чёрная, точно она уже знала, что скоро ей придётся совсем застыть и замёрзнуть, вода плескалась у пустынных мостков. В каюте Никифораки пахло табачищем. На стенке висели красиво расчерченное на твёрдой бумаге расписание на много дней вперёд никогда не состоявшихся уроков по плаванию, а сам Никифораки и его ученики давно уже ушли на фронт, и многим из них никогда уже не придётся плавать и прыгать с вышки в жаркий летний день…
Они прошлись по бульвару, вяло припомнили, как шлёпали по весенним лужам всей компанией по дороге из школы, но это всё было как-то неинтересно.
Выбрались на пригорок, оттуда вдали виден был домик Анны Иоганны.
— Ну её, — сморщилась Оля. — Может, сама-то она и ничего, а всё-таки немка. А вдруг она радуется за своих, что они наступают? Нет, не пойду к ней прощаться!
Они пошли к обрыву.
Дом, где когда-то жил Танкред, стоял на своём месте, и во дворе так же было безлюдно. Они всё вспомнили, но вслух говорить об этом не хотелось.
— Может, мы в последний раз в жизни вот с тобой гуляем, — глядя в сторону, сказал Володя.
— Не знаю. Что-то я ничего себе представить не могу — что мы прощаемся, что мне ехать, что последний раз, — ничего не могу представить… Я какая-то тупая. Пойдём лучше домой.
— Правда. Правда… Это правда.
— Что ты всё "правда да правда"?
— Ты сказала правду. Я тоже какой-то тупой. Я думаю, думаю, а ты скажешь, и я сразу понимаю, что вот это самое я как раз и думал. Это не потому, что я тебе подражаю. А ты умеешь сказать, а я нет. Вот не умею.
— Ладно, буду уж, так и быть, за тебя разговаривать, а ты только думай.
— Договорились, — добродушно согласился Володя, и они расстались у двери, за которой начиналась скрипучая лестница.
Глава двадцать четвёртая
Как только стемнело, в вышине послышались звуки неравномерно подвывающих моторов самолётов и началась бомбёжка.
Город, освещённый неживым светом сильных ламп, медленно спускавшихся на парашютах, казался мёртвым. Только на окраинах били наши зенитки, взлетали цветные цепочки трассирующих пуль, зенитных пулемётов, и вдалеке бегали по небу бледные столбы света прожекторов.
А в самом городе рушились, рассыпая брёвна, деревянные старые домишки, под сбитой столетней штукатуркой обнажились красные кирпичные раны на сводах старинного гостиного двора. Обвалился угол большого дома, и загорелась пригородная усадьба-музей с её конюшнями, амбарами и беседками.
Наутро ещё тянулись в небо в разных концах города чёрные хвосты потухающих пожаров.
Прижимая к груди маленький мягкий свёрточек, Оля то быстрым шагом, то бегом пересекала площадь, на которой спокойно работали люди, разбирая развалины аптеки, выбралась на пустынную набережную и тут бросилась бежать, пока совсем не задохнулась.
Володя должен был её ждать в условном, вернее, обыкновенном месте на обрыве, но ещё издали она увидела, что он бежит к ней навстречу.
Они схватились за руки и побежали вместе.
— Это тут близко! — ободряя её, повторял Володя. — Давай я его понесу!
Оля возмущённо отдёрнула руку, в которой был зажат мягкий свёрточек:
— С ума сошёл?.. Никому его не отдам!
На дне оврага прогорал в кучке углей маленький костёрчик, обложенный камнями и битым кирпичом.
— А где у тебя лопата? — спросила Оля, всё ещё с трудом отдыхиваясь после бега.
— В кустах спрятана, я всё приготовил, не беспокойся. А когда вас отправляют?
— Меня отпустили всего на час, полтора. Поезда уже не ходят, нам должны грузовик дать. Вещей можно один рюкзак брать — может, пешком придётся идти.
— Правда, что слона разбомбили? Все говорят.
— Никто не знает. Он в конюшне жил, в усадьбе, её разбило, он испугался, наверное, и куда-то убежал… Во всяком случае, его пока не нашли… А это что?
— Это коробка от боевых патронов. Особый такой металл, сто лет будет лежать, не заржавеет.
Оля бережно развернула свёрток и вынула маленького Тюфякина. Вид у него был праздничный, если можно сказать, парадный, видно было, что его только что расчесали от кончика короткого хвостика до ушей и почистили щёткой. Бантик на шее был аккуратно расправлен, необыкновенно живые зелёные глазки с любопытством, хитровато проглядывали сквозь завитки курчавой шёрстки.
— Смотри как следует, — грустно сказала ему Оля. — Не скоро ты теперь увидишь кустики, и берёзки, и свет…
— Пожалуйста, не надо, очень тебя прошу, — с беспокойством остановил её Володя. — Зачем ты так с ним разговариваешь?
— Я же шучу.
— Нет, ты не шутишь. Ты заревёшь сейчас. Он очень симпатичный, но ведь он всё-таки не живой, а волосяной, шерстяной.
— А разве не живой может быть симпатичным? Ты вот сам проговариваешься… Тебе его жалко?
— Совершенно глупый вопрос. Война, разве об таких вещах надо думать. Надо зубы стиснуть и помнить…
— Это всё без тебя знаем. А ты скажи: жалко?
— С точки зрения… глупо. И смешно. Даже что-то в этом есть, если хочешь знать…
— А жалко?
— Ну тебя совсем! — с ожесточением крикнул Володя. Грубо сплюнул в сторону. Сделал тупо-презрительную гримасу. Плюнул ещё раз и пожал плечами. — Вообще, конечно, жалко.
Схватил старый корявый паяльник, который давно уже нагревался у него на костре, и хрипло гаркнул:
— Давай дело делать, а не рассуждать! Укладывай!
— Это что? — с вежливым удивлением осведомилась Оля. — Это что с тобой?
— Это так. — Володя неожиданно побагровел. — Ты про что?
— Нет, это кто так рыкает? Точно пьяный бык!
— Ну, этот… Попрыкин. Мастер… этот…
— А, Наполеон?.. Ну, понятно… А мне показалось, тебе нехорошо. А что там подложено в ящике?
— Это промасленная бумага, ему лучше так будет. От сырости. Ну, клади!
Оля нежно обернула Тюфякина в тряпочку, уложила в оцинкованный ящик, расправила складки, нечаянно глянула ему в глазки, выглядывавшие из-под открытой только до половины крышки, и вдруг слезы у неё закапали сами из глаз.
— Точно в гробик мы его укладываем…
— Дура! Со всей откровенностью тебе говорю! — прикрикнул Володя. — Это несгораемый шкаф. Бомбоубежище! Поняла? Мы его прячем в убежище от фашистов, а кончится война, он будет как огурчик, ещё мы ему завидовать будем!.. И не смотри туда больше.
Придавив крышку, Володя старательно и довольно умело начал запаивать шов. Оля сидела рядом на корточках и следила за его руками.
Положив паяльник на угли, чтоб снова подогреть, Володя посмотрел ей в лицо:
— Даже немужественно. На тебя непохоже. Запаяем и в ямку спрячем. Отлежится как миленький.
— Жалко в ямку. Будто мы его хороним… Мы уйдём, он там будет лежать один, и над ним травка вырастет…
— Как только война кончится, мы вместе сюда придём и его выкопаем — ты вот о чём думай!.. Глазки! Глазки!.. А ты вот думай, как это будет, как мы откроем ящичек, и он оттуда выглянет глазками, и как весело поедет у тебя на руках домой.
— Мы вместе придём выкапывать.
— Конечно… Только если меня убьют, ты приходи одна. Место найдёшь — вот самый центр треугольника из тех вот трёх берёз. И тут холмик.
— Кто тебя убьёт?
— Что ж ты думаешь, если они сюда придут, я буду фашистам автомобили чинить? Нате-ка, окунитесь! Я им починю!.. Ну, тогда ты сама его вытащишь и вот вспомни. Как мы сейчас вместе… Вспомнишь?
— Вспомню, как ты глупости говорил.
— Ну вот, готово. Вот в кустах я выкопал. Тут песок, и никто не догадается, что копали.
Володя опустил ящик на дно ямы и вытащил из чащи кустов спрятанную там лопату.
— Подожди, ему так криво лежать. Косо уложил!
Они поправили ящик, и Володя торопливо стал закапывать, ссыпая потоки сыроватого песка с краёв отвала.
Вдвоём они затоптали поверхность, и Володя прикатил ещё камень и набросал веток и несколько пригоршней хвои для маскировки.