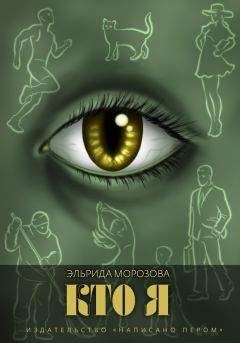Альберт Лиханов - Мой генерал
— Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра!..
И все остальные солдаты без всякой команды вторят им:
— Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра!..
И могучий полковник кричит вместе с ними.
И мой дедушка.
И я тоже. Кричу изо всех сил!
— Ур-ра! — Какое синее сегодня небо! — Урр-ра! — Какая сильная у нас армия! — Ур-ра! — Какой замечательный герой генерал Иванов! — Ура! Ура! Ура!
БОГ ВОЙНЫ
А потом начинается уж совсем прекрасное.
Мы едем куда-то. Довольно долго. Потом выходим на опушке леса. А там стоят орудия. Разные. Большие и поменьше. Возле них солдаты.
Мы поднимаемся на дощатый помост. Там стоят стереотрубы. Такие приборы, похожие на рогатку. Каждая рогулька — оптический глаз. Посильнее, чем у бинокля.
— Прикажете начинать, товарищ генерал-майор? — спрашивает могучий полковник.
Иванов кивает. Полковник берёт огромный револьвер. Загоняет в него здоровый патрон с красной гильзой. Поднимает руку вверх. Револьвер жахает, и в небо, шипя, впивается красная ракета. Вот, значит, что это за револьвер? Но удивляться некогда.
Вдоль опушки проносится рёв. Я даже испугаться не успеваю. Только вздрагиваю каждый раз. Это орудия стреляют одно за одним. Бых-бых-бых-бых! Подряд. Получается очередь. Только не автоматная, а орудийная. В конце поля взлетает земля.
Пушки грохают ещё раз. И ещё. Ещё. Потом умолкают. Полковник уходит к пушкам. Предупреждает заранее:
— Сейчас будем танки бить. Прямой наводкой.
Тихо. После стрельбы тишина особенной кажется. Вот ворона каркнула. Ишь ты, молодец, не испугалась грохота! Голоса слышатся. Это солдаты у орудий разговаривают. Звякает металл. Наверное, пустые гильзы складывают.
Дедушка и Иванов улыбаются, переглядываются. Вдыхают запах пороха, который ветром от пушек принесло.
— Хорошо, Антоша! — говорит Иванов.
— Хорошо, Коля! — отвечает дедушка.
— А помнишь артподготовки перед наступлением? — спрашивает Иванов.
— Ещё бы! — улыбается дед. — Тысячи снарядов на километре фронта! В считанные минуты!..
— Гарь, дым! — перебивает Иванов. — Соседних пушек не видно!
— Весёлое время — наступление, — кивает дед.
— Ребята у орудий скачут как черти! — горячится Иванов. — Чёрные от копоти, весёлые! От канонады оглохшие!
— Нет! — восклицает дед. — Никто лучше Лермонтова про артиллерию не написал: «И залпы тысячи орудий слились в протяжный вой!»
— Что говорить! — смеётся Иванов. — Бог войны наша с тобой артиллерия!
Они замолкают. А я на них любуюсь. Шинели расстегнули. Папахи сняли. Седые волосы на солнце блестят. Улыбаются, довольные.
— Ты знаешь, Коля, — говорит дед, — встретил я в Сибири одного сержанта. Наказал я его несправедливо на войне. За то, что фашиста пленного ударил.
— Лежачих не бьют, — сказал Иванов.
— Да этот фриц у своего же пленного пайку хлеба, оказывается, отнял. А сержант-то мне этого и не объяснил. Испугался начальства. И теперь вот встретились.
— Неудобно вышло, — вздохнул Иванов. — Что ж, нам, командирам, перед сержантом извиниться не грех. Было уж, что там говорить. На вежливость времени не хватало. Поговорить не могли толком. Выполняй приказ, и всё тут. Да и кто перед солдатом не в долгу, скажи? Сами ведь солдатами были. Помним.
— Это верно, — ответил дедушка, — не зря скребёт на сердце.
Примчался полковник. Снова жахнул из ракетницы. Иванов прильнул глазами к стереотрубе. Дедушка взял бинокль. Мне свой полковник отдал.
Я смотрю в бинокль. В настоящий полевой бинокль!
Разные ведь есть бинокли. Можно и в магазине такой же купить. Такой же, а не такой. Вот винтовка. У неё номер есть. Она на учёте числится, как солдат. Потому что она — боевое оружие. Мой бинокль — как винтовка. Он армии служит. Военным помогает. Это настоящий военный бинокль.
Я смотрю в него, сквозь тонкие крестики и чёрточки, которыми стекло помечено. Разглядываю поле вдали и вдруг вижу, как по нему движутся странные предметы.
На санях установлен столб. Это как бы мачта. А на мачте натянуто полотно. Движется по земле парус. Всё ближе, ближе к нам. Но пушки молчат. Парусов уже много на поле. И они быстрее ползут.
— Чего же медлят? — говорит дедушка. — Расстояние позволяет.
Иванов хмыкает, ничего не говорит. А полковник объясняет:
— Отрабатываем дрезденский манёвр генерал-майора. Видите, пушки стоят под углом к атаке. Огонь будем вести с близкого расстояния. И на всю глубину.
— Вот как! — изумляется дед. — Да сейчас же тактика другая. Орудия другие. В военных условиях такой атаки может и не быть!
— Может и не быть, — соглашается полковник. — А может и быть…
— Ну, — хохочет дедушка, — вас не проведёшь! Молодцы. Да так и надо! Новому учитесь, но и старое не забывайте!
И тут начинается пальба.
Пушки грохочут. И я вижу, как в парусах появляются дырки. Один парус пополам сломало — угодило прямо в мачту!
Те паруса, где дыры, — останавливаются. Много «танков» уже подбито. А другие ещё идут. Ползут — и всё.
У стволов огонь пляшет. Дым клубами. Остановились последние «танки». Всё. Победа.
Иванов от стереотрубы отвалился, зубами сверкнул.
— Что ж, — сказал, — спасибо бойцам! Стреляли отлично. — Подмигнул деду: — Давай их поблагодарим. Покажи-ка, как ты умеешь!
Полковник снова из ракетницы жахнул. На опушке солдаты к нам повернулись. Понять не могут, в чём дело? Ведь стрельба закончилась.
А дедушка подошёл к краю помоста, сложил руки рупором, набрал воздуха и гаркнул:
— Бла-годарим за служ-бу-у!
Солдаты переглянулись. Быстро выстроились рядом с пушками. И хором ответили:
— Служу Советскому Союзу!
И так складно у них получилось, что мы все засмеялись. Будто солдаты только и знали, что генералам за полкилометра кричать в нарушение всяких уставов.
Потом обед был. Стол стоял огромный, буквой «П». За столом одни офицеры сидели. Когда всем налили вина, полковник произнёс:
— Товарищи офицеры, прошу встать!
Все встали по стойке «смирно». Щёлкнули сапогами враз. И я тоже встал. И генералы мои встали.
— Товарищи офицеры! — сказал полковник. — Предлагаю тост за здоровье дважды Героя Советского Союза гвардии генерал-майора Николая Петровича Иванова!
Офицеры выпили.
— Ура генералу Иванову, — тихо сказал Дед.
Крыша чуть не рухнула от могучего, сильного «ура».
ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ
Мы сидим, как в гнезде.
Я отбросил эту палку, на которую локти ставят и которая наши кресла отделяет. Приткнулся к дедушкиному боку. Он меня рукой прикрыл. Будто крылом. Как грачи сидим. Грачи в самолёте.
— Никто ведь не поверит мне! — бормочу. — За одни весенние каникулы столько пролететь! Столько увидеть! Ты, дедушка, молодец, что меня взял!
— Мне бы и скучно без тебя было! — отвечает негромко дедушка. — Хорошо, что мы вместе летали!
— Ещё летим! — улыбаюсь я.
— Летим! — шепчет дедушка.
Лететь нам долго. Много часов. Но совсем не скучно. Потому что мы с дедом говорим. Помолчим. Подремлем. Опять продолжаем длинный разговор.
Действительно, столько замечательного увидел я за каникулы, но на душе у меня кошки скребут. Никак не забуду того парня в застёжках. Фиделя. Тоже прокурор нашёлся! Я и без него всё про себя знаю. Знаю, что похож был на тех внуков. Но в Москве-то чем я виноват оказался? Сами же явились!
Я спрашиваю дедушку. Он молчит. Потом говорит:
— Подумай!
— Ну, мог бы я им сказать: выметайтесь?
— Подумай!
— Чего ещё думать?
— Всё-таки подумай. Думать учись.
— Но я же вежливым должен быть.
— А про галстук? Когда этот Глеб про галстук сказал, ты почему промолчал? Знаешь, это как называется? Соглашательство! Ты хоть и не снял галстук, а с Глебом согласился, ясно? Потому что не ответил ему как следует. Промолчал. Примирился.
Я от деда отодвинулся. Стал в иллюминатор смотреть. Чтобы он не увидел, как в глазах слёзы задрожали. Сказанул называется! Соглашательство! Ещё чего!
— Вот видишь, — сказал дед, — я тебе правду сказал, а ты обиделся. На правду многие обижаются. На ложь не обижаются. За ложь — спасибо говорят. А правду простить не могут.
Я молчу. Обижаюсь. Потом не обижаюсь. Просто молчу. Думаю. Приваливаюсь к дедушке. Он опять прикрывает меня рукой.
— Честность и правда выше вежливости, — говорит дедушка. — А выше всех — убеждённость.
— А как с тем парнем быть? — спрашиваю я. — С Фиделем.
— Никак, — отвечает дед.
— Может, письмо написать?
— Что напишешь? Что ты не такой? Не надо.
— Почему?
— Это в письмах не доказывают. Словам не верят. Верят делам.
Я молчу. Думаю. Что-то щекочет под ложечкой. Какое-то недовольство.
— Тебе досадно? — спрашивает дед.