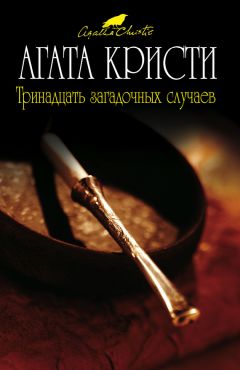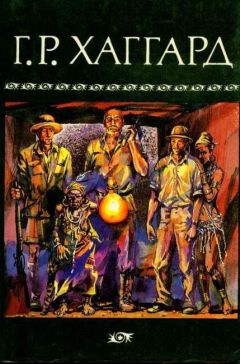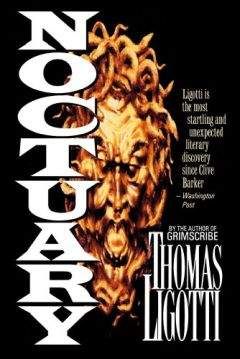Холли Шиндлер - Темно-синий
Черт побери! Как будто это я девочка с шестимесячным ребенком, а не Дженни.
— Вот здесь, этот оттенок все еще не такой, — говорит мама, прогоняя меня от своих банок с краской и прожевывая последний кусок сэндвича. — Давай подвинься… я уже знаю как. Я теперь так близко. Ты что, не понимаешь? Я все поправлю, Аура, если ты, черт возьми, уберешься с дороги.
В тот вечер я раскошеливаюсь на пиццу. Я знаю, я не должна тратить так много на один обед, особенно теперь, когда мама, очевидно, преподавать больше не будет и мы будем существовать исключительно на папашины алименты. Но она за весь день ничего не съела, кроме мерзкого сэндвича с арахисовым маслом. Ну серьезно — кто сможет устоять перед запахом только что испеченной пиццы пеперони с дополнительным сыром?
Точно не Грейс Амброз.
Я рада, что она ест, из-за этого я чувствую себя не такой задницей, но я просто придираюсь к себе. Если так пойдет дальше, примерно через две недельки я запросто стану лицом обложки «Анорексис дайджест».
Я запихиваю остатки пиццы в холодильник и, сгорбившись над раковиной, представляю, что получила записку от одного из кусков пиццы пеперони:
Дорогая Аура,
Спасибо тебе за то, что ты была столь добра и положила нас в свою миссис Холодильник. Пачка «Арм энд Хаммер» — впечатляюще. Мы рады, что ты не собираешься бросить нас погибать на кухонном столе — студенты все время это делают, а мы слышали страшные истории про тараканов, которые грызут бедные кусочки пеперони! Фи!!!!!! Как бы то ни было, спасибо еще раз.
С любовью, Пеппи
P.S. Не могла бы ты достать еще продуктов? Мы совсем одни здесь! Нам так ОДИНОКО!!!!!
Я просто устала, вот и все. Поживите подольше в одном доме с шизофреничкой, и вы начнете задумываться, кто еще тут сумасшедший.
Кстати говоря…
Я наклоняю голову в сторону, прислушиваясь. Никакого радио вдалеке, никакого маминого голоса, никаких стуков, никакого шатания по коридору, никакой музыки из проигрывателя, никаких шагов в ее спальне. «Ма-ам?» — шепчу я, слабо надеясь, что она и в самом деле спит. Это было бы одной из самых больших подарков судьбы, если бы она действительно, если бы только…
На цыпочках я выхожу из кухни и обнаруживаю ее рухнувшую на диван в гостиной. Несколько минут я стою и смотрю, как мамина грудь поднимается и опадает. И мне кажется, что вся картина тонет в зимнем увлажняющем креме для потрескавшейся кожи.
Когда я смотрю на мамино плечо, плавно взлетающее от очередного глубокого вздоха, до меня доходит, что сейчас идеальная возможность подогнать Пеппи-пишущей-записки-пеперони немного друзей.
С ключами в руке я иду в темноту. В половине десятого небо кажется похожим на холодные объедки ужина с тофу — остывшего и ненужного. Но звезды все еще сверкают.
Я переключаю «темпо» на нейтралку и отпускаю его скользить по подъездной дорожке, боясь разбудить маму. И теперь, когда мои глаза привыкли к темноте, я ловлю свое отражение в зеркале заднего вида. Без макияжа, длинные черные волосы растрепаны, на мне толстовка с капюшоном, вся забрызганная краской (должно быть, мама разок ее надевала). Мое лицо такое жирное, ведь я не умывалась как следует и целую неделю не пользовалась кремом от прыщей.
— Теплая блевотина, — бормочу я, поворачивая ключ зажигания, потому что именно так я и выгляжу.
Весь «Принц Куттер» выкрашен в этот отвратительный зеленый цвет, я шагаю внутрь. Как будто захожу в ловушку для жуков, которая готова поджарить меня в любой момент. Когда я выуживаю мой счастливый список покупок из кармана джинсов, дверь позади меня открывается. Два парня бросают свои скейтборды на пол и пролетают мимо меня в отдел с крупами.
Пульсация их колес по плитке вмиг навевает мне образ Джереми — как запах воды из оросителя на свежескошенной лужайке стекает по нему каждый раз, когда ветерок заставляет его длинные волосы танцевать. От мысли о поцелуе Джереми у меня, честное слово, мурашки бегут по коже. Но я не идиотка. У меня ноль шансов насчет Джереми. Особенно после тех ужасов, которые я ему наговорила. И вообще, я не из тех девушек, кто крутит романы или сходит с ума от парней с роскошными длинными волосами.
— Эй! — один из зануд, работающий в ночную смену, кричит на скейтеров.
Он поворачивается к паре таких же ботанов в одинаковых белых рубашках и фартуках, на которых вышит логотип «Принц Куттер». Они уставились друг на друга и думают: Ну что, кто смелый? Кто пойдет к ним? Не, не я, не я…
Я качаю головой и толкаю свою тележку к салату. Мне бы хотелось, чтобы был способ приготовить салат с запахом пиццы пеперони. Может быть, если я положу куриную грудку… и положу ее на зелень…
Салат продается с уценкой: девяносто девять центов. Но тот, который любит мама — ромэн и радичио, — стоит почти три доллара. Я снова смотрю на свой список. Наверное, можно себе это позволить, тем более что из косметических штук мне почти ничего не надо — только зубная паста. (А когда я в последний раз видела, как мама чистит зубы?) И пока я размышляю, стоит ли мне потратиться на дорогой салат, скейтбордисты пролетают мимо, как облачка из двух дымовых труб.
— Убирайтесь отсюда, — кричит мужик средних лет (наверное, ночной менеджер).
Парни смеются — как будто продуктовые магазины для того и нужны: устраивать розыгрыши, злить всех, просто ловить кайф.
— Я вам говорю, — лает менеджер. — Пошли вон!
Я наблюдаю, как они выкатываются наружу, и мне кажется, что кто-то схватил меня за мясо над пупком и начал крутить. Боже, это было бы чудесно, будь я на одной из тех досок, вылетая в дверь. Вы, тупые, скучные взрослые, я никогда не буду такой, как вы, сейчас я свободна, и мне никогда не будет нужна гигантская металлическая тележка, потому что мне никогда не придется заботиться ни о ком, кроме себя самой. Только я и моя доска, до скончания века, чувак.
Я потираю голову и пытаюсь сконцентрироваться на салате — реши уже, Аура. Надо сделать все быстро, о’кей? У нас не так уж много времени до того, как она проснется. Я хватаю тот салат, который любит мама, и вычеркиваю бумажные полотенца из списка. Нет смысла покупать салат за девяносто девять центов, если она все равно не будет его есть…
Ребенок орет дурниной, когда я прикатываю свою тележку на кассу. Я серьезно, он вопит. Так вопит, что подпрыгивает каждая косточка у меня позвоночнике.
— Ты что-то знаешь, о чем не знаю я? — спрашивает кассирша.
Когда я наконец отвлекаюсь от этого звука — этого мерзкого, разрывающего барабанные перепонки вопля, — вот она, вся в своих огромных белых волосах и с зеленой подводкой, ухмыляется, как будто она умственно отсталая или пьяная. Она средних лет и чересчур уж веселая для ночной смены.
Меня очень удивляет ее возраст и то, как она приветственно скалится. Обычно менеджеры тыкают в ночные смены молоденьких и отчаянных. Мгновенно я начинаю размышлять, какие сорокалетние тетки работают по ночам — может быть, те, кого достало все, что происходит у них дома, или те, у кого никого нет дома. И меня поражает, как, черт возьми, звучит это «никого нет дома». Я тут же ненавижу себя за одну мысль об этом.
— Ты как будто делаешь запасы для бомбоубежища, сладкая, или готовишься к снежной буре с этой кучей консервов.
Я пытаюсь выдавить из себя улыбку, молясь, чтобы моих математических способностей хватило и у меня в тележке как раз столько, за что получится расплатиться наличными. По крайней мере, за мной не толпятся другие покупатели, которые будут пыхтеть и злиться, если мне придется сказать кассирше, чтобы она убрала некоторые товары.
Нет никого, кроме этого ребенка — почему его до сих пор никто не заткнул?
Я знаю, из тех двух с половиной секунд, что я была нянькой, присматривая за полуторагодовалой девочкой, которая жила в квартале от моего дома, что он орет не потому, что устал. Это не хныканье, потому что ему не дали игрушку, которую он хотел. Это серьезный плач. Плохой плач. Больной плач. И вдруг я думаю — кто же, мать вашу, ходит в магазин ночью с ребенком?
Женщина на кассе ближе к выходу качает ребенка на своем бедре. Его лицо томатно-красное, рот скривился в гримасу, слюни льются с нижней губы.
— У него болит ушко, — без конца извиняется женщина. — Простите. Простите. Мы пришли за каким-нибудь лекарством, да, крошка?
Когда бодрая кассирша начинает пробивать мои продукты — бип, бип, бип, — все эти мои консервы, женщина с ребенком поворачивается, чтобы посмотреть на меня. Боже. Как будто в мире живет всего десять человек. Это она, Дженни Джемисон, подбрасывает Этана на бедре.
Моя рука на секунду замирает, когда мы смотрим друг на друга. Я перестаю выкладывать банки на ленту, я смотрю на это старое лицо. Если бы я не знала ее, я бы подумала, что она старше кассирши. Слыша, как плачет Этан, я понимаю, что Дженни выглядит так скверно, потому что целыми днями сидит с ним. И я чувствую, что покрываюсь мурашками, ведь с ним действительно что-то не так. Очевидно.
![Жюль Верн - Миссис Брэникен [Миссис Бреникен]](/uploads/posts/books/28259/28259.jpg)
![Жюль Верн - Миссис Брэникен [Миссис Бреникен]](/uploads/posts/books/28288/28288.jpg)