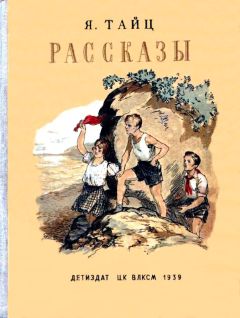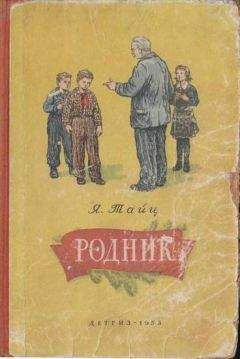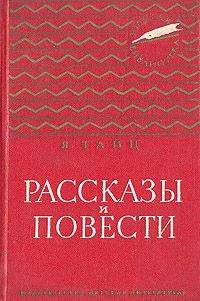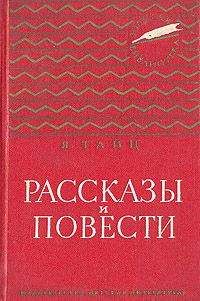Яков Тайц - Неугасимый свет
Нам дали квартиру в Четвёртом Доме Советов, на углу Моховой и Воздвиженки. Наши окна выходили на Кремль. Мы каждый день любовались его чудесными куполами, золотой головой Ивана Великого, узорными крестами Успенского собора, каменным кружевом Кутафьей башни. Всё это было очень красиво, особенно по вечерам, когда заходящее где-то сзади солнце играло на всех главах, маковках и куполах.
Внизу, у Кутафьей башни, день и ночь стояли часовые. Мне очень хотелось в Кремль, но без пропуска часовые не пускали. А детей они пропускали. Часовые, видно, знали, что Ленин очень любит детей, вот они и пропускали их.
Девочки из нашего Четвёртого Дома Советов каждый день бегали в Кремль погулять. Ведь это очень близко — только площадь перейти. Бегала туда с ними, конечно, и наша Лилька.
Однажды она взяла с собой нехитрый завтрак того времени — антоновское яблоко и харьковский леденец, кажется, уже из последних, — и отправилась с подружками в Кремль. Мне в окно хорошо было видно, как часовой пропустил их пёструю стайку.
Вдруг Лилька прибежала обратно — красная, взволнованная, растрёпанная…
— Что случилось?
— Я видела, видела! — закричала она.
— Кого ты видела?
— Его… Ленина, вот кого! Он к нам подошёл, и я его ландринкой угостила. Вот!..
— Не может быть!
— А вот и может! А вот и может!.. — Глаза её сияли, щёки так и горели. — И вот он стал искать у себя в карманах, и здесь, и здесь — везде, и нашёл карандаш и говорит: «Умеешь писать?» И я сказала, что да.
Мы все окружили её. Мама прибежала из кухни. Тимка прибежал со двора. А папа как раз был дома.
— Ну дальше, дальше! — зашумели мы на неё.
— А дальше он мне дал бумажку и говорит: «Ну, напиши что-нибудь». Я не знала что и написала: «Масква». А он переправил на «о», дал мне карандаш и говорит: «На, учись писать»., А я взяла и говорю: «Насовсем?» А он говорит: «Насовсем» — и засмеялся. Вот!..
И Лилька вынула из расшитого кармана своего фартука маленький, уже много списанный, но остро, красиво отточенный карандаш. Мы стали его вырывать друг у друга. Это был обыкновенный школьный шестигранный карандаш с надписью на бочку «И. Фабер».
— Осторожно! — волновалась Лилька. — Не пишите! Не пишите! Чтобы не стратился.
Но мы, конечно, не удержались, и каждый из нас бережно провёл этим карандашиком чёрточку. А Тимка даже две.
Потом папа сказал:
— Ну, смотри, Лилька, береги его! И учись писать. Как следует учись! Слышишь?
— Слышу!
И счастливая Лилька спрятала карандаш в банку из-под ландрина на память о том далёком времени, когда у нас не было ни метро, ни высотных домов, ни «ЗИЛов», ни Днепрогэсов, ни тракторов, ни радио, ни телевизоров, ни атомной энергии и даже карандаш — простой школьный карандаш — был не нашего производства. Но был тот, кто положил начало всему нашему богатству, — Ленин!
Вот пока, значит, всё!
ЗОЛОТОЙ ГРОШИК
ПЕРВАЯ КАРТИНКА
Бабушка часто говорит:
— Янкеле, выпей молочка! Янкеле, возьми сахарку!
У бабушки много молока. В двух громадных бидонах она разносит его по богатым квартирам. Где она берёт молоко, Янкеле не знает. Он пьёт молоко, но больше налегает на сахар.
По утрам он пьёт молоко в кровати. Вот он кричит в стакан:
— Ещё сахару-у!
Тик-так! — откликаются ходики, а в стакане гудит: у-у-у!
Янкеле сбрасывает одеяло. Опять они оставили его одного! Опять она ушла со своими бидонами!
Он подбегает к запертой двери, садится голышом на пол у порога и плачет:
— Мама-а!
Тик-так! — дразнятся ходики, а Ядвига за стеной говорит:
— Не плачь, Янек. Бабуся прендко пшиде.[1]
— Она меня заперла…
— Не бойся, Янек! Смотри, солдаты.
— Где?
Слёзы у Янкеле высыхают, он бежит к окну. Верно — солдаты. Они все одинаковые, все одинаково разевают рты и поют с присвистом:
Соловей, соловей, пташечка…
А между словами слышно, как стучат сапоги. Эх, раз, эх, два! — будто одна громадная, тяжёлая нога. И тихонько дребезжит стекло в окне.
Янкеле прижимается к стеклу, прислушивается к пронзительному солдатскому свисту, выпячивает губы и тоже пробует насвистывать:
— Соловей, фьююю, соловей…
Солдаты кончились, можно опять поплакать. Вдруг Янкеле замечает городового. Городовой стоит на углу, и пыль после солдат садится возле него на землю, будто она тоже боится его длинной, изогнутой шашки.
Янкеле быстро натягивает штанишки, допивает молоко без сахара — всё, как умный мальчик, чтобы городовой ничего плохого не подумал — и садится к окну рисовать. Мама, когда уезжала к папе, подарила Янкеле цветные карандаши. (А он всё равно плакал!)
На той стороне улицы, против окна, стоит большой дом, а на доме красивая вывеска: золотой орёл с двумя головами и буквы. Янкеле знает только две буквы: «А» и «О».
Он достаёт из коробочки зелёный карандаш и начинает срисовывать орла.
Ядвига стучит в стенку:
— Янек, ты не плачешь?
— Нет. А ты?
— Я тоже нет.
Янкеле рисует орла и думает о папином брате Герцке. Он был хороший, он всегда брал с собой Янкеле и Ядвигу на главную улицу, где иллюзион.[2] Ядвига, кутаясь в белый платок, шла около Герцке и тихо говорила:
— Герценька, коханый[3] мой, пойдёшь со мной в костёл? А то тату не пустит…
Герцке трогал тросточкой Ядвигин платок:
— У тебя тату, у меня мама. Что делать? Сердце моё разрывается!.. Янкель, не путайся под ногами!
А если мимо проходил кто-нибудь чужой, Герцке весело вертел тросточку двумя пальцами:
— Какой чудный вечер, панна Ядвига! Перейдём на другую лаву.[4]
А Ядвига отвечала:
— Ах, бардзо дзенкую,[5] пан Герцке!
А потом Герцке забрали в солдаты, и никто больше не ходит с Ядвигой и Янкеле на Погулянку и на Замковую гору. Вот почему теперь часто слышно, как за тонкой стеной плачет Ядвига…
Орёл получился какой-то кривой: одна голова больше, другая меньше. Его надо бы золотым карандашом, но мама не купила.
Янкеле принимается за буквы. Одна буква похожа на табуретку, другая — на весы без чашек. Янкеле видел такие весы на Рыбном базаре. Бабушка берёт его туда по пятницам. Там летают большие зелёные мухи, и везде — на столах, в бочках, в корзинах, — везде шевелятся скользкие, блестящие рыбы. А толстые, забрызганные чешуёй торговки, размахивая мокрыми руками, кричат:
— Свеженьки, живеньки!.. Только что из Вилии!.. Мадам, обратите внимание, какая жабра!
Бабушка долго торгуется, нюхает щуку, раздирает ей жабры, кладёт на место, отходит, возвращается, снова торгуется, пока торговка наконец не схватит щуку и не бросит её в кошёлку:
— А, нехай по-вашему! Давай гроши!
Янкеле, помогая себе языком, срисовывает букву за буквой. Потом он приподнимается и смотрит то на вывеску, то на свою картинку. Получается похоже, только на вывеске все буквы одинаковые, а у Янкеле они косые и неровные, будто падают. Зато у него каждая буква другого цвета — все семь карандашей в работе. Вот вернутся папа с мамой, он им покажет свою картинку. Папа посадит его на колени, пощекочет усами и скажет:
— Аи, Яшкец-молодец!
За дверью гремят бидоны. В замке звякает ключ. Янкеле вскакивает и, роняя штанишки и карандаши, бежит к двери:
— Бабушка!
Бабушка опускает пустые бидоны, ставит на стол кварту[6] и обнимает Янкеле. Он дёргает её за старенькое, облитое молоком платье и старается заплакать:
— Почему ты меня заперла-а?
— Золотко, не надо плакать! Бабушка ушла, когда ты ещё спал. Бабушка зато тебе сахарку принесла.
Янкеле всё-таки пробует всплакнуть. Он жмурится, трёт глаза, хнычет, но ничего не получается. Он засовывает в рот большой кусок сахару и показывает бабушке свою картинку.
Бабушка ахает и причмокивает языком:
— Тца, тца! Вы подумайте, какой умник!
— Нет, бабушка, ты прочитай!
Бабушка долго смотрит на орла с двумя головами, на синие, жёлтые, зелёные буквы:
— Бабушка не умеет, золотко! Вот приедет мама, она прочитает.
— А папа?
— И папа, конечно. Все прочитают!
Бабушка принимается мыть бидоны. А Янкеле вешает картинку над кроватью, сосёт сахар и думает: «Скорей бы папа с мамой приехали!»
Потом они с бабушкой обедали, потом ужинали. Потом бабушка зажгла лампу и села вязать Янкеле чулок. А Янкеле улёгся под своей картинкой. Было тихо, все мухи ушли спать на потолок, только в лампе тихонько шипел керосин да под печкой скреблась мышь. И Янкеле сразу заснул.
Вдруг шум и яркий свет выкрученного фитиля в лампе разбудили его. Он вскочил:
— Приехали! Приехали!