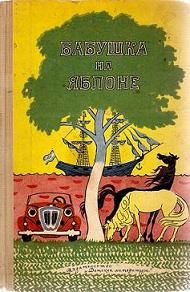Пит Рушо - Итальянский художник
— В Остре, уже за городом далеко, у телеги колесо сломалось, обод — бздыннь! — лопнул, спицы рассыпались. Разогнула чеку, сняла колесо, привязала оглоблю вместо него.
— Как тебя туда занесло?
— Не важно. Важно то, что лошадь не смогла сдвинуть мою повозку. Там стадо паслось. Я поймала двух быков, кое-как припрягла; быки дотянули меня до деревни. Всё стадо попёрлось за нами. Незаметно, скрытно, с телегой набитой турецкой парчой и не спрашивай чем еще, на трех колесах, одной оглобле и на двух быках, не привлекая внимания, в сопровождении двухсот чертовых коров, отары овец и трех беременных ослиц — в облаке пыли добрались до Понджели. В Понджели праздник. Никого не найдешь, кузнец уехал к родне. Короче говоря, завтра сюда приедет Николо Беницетти, заберет этот тарантас. Не удивляйся, я у него одолжила телегу. Всё, я спать пошла.
Она ушла в свою огромную комнату, некоторое время было слышно, как она возится в темноте, потом настала тишина, она уснула, и треск цикад сделался главным звуком ночи.
— Это Ромина? — спросила меня Азра сквозь сон.
— Ромина, Ромина.
— Ласточка наша, — пробормотала Азра и выставила ногу из-под простыни. Азра так спала всегда, в жару и в холод она выставляла ногу из-под одеяла. Я её накрывал, но этого хватало минуты на две-три.
«Приедет Николо Беницетти из Понджели», — с остервенением подумал я и стал смотреть на звёзды через высокое пустое окно.
Я рисовал Пенелопу. Ромина была роскошна, она была поразительна. Только тогда, когда я начал её рисовать, стал понятен её секрет. Ромина была сильной девушкой, но в ней не оказалось ничего огромного. Её могучий пышный характер был больше её довольно строгого тела. Избыток души и обаяния уплотнял пространство вокруг Ромины, наподобие скорлупы грецкого ореха вокруг ядра, или же наоборот, наподобие абрикоса вокруг абрикосовой косточки. Идея абрикоса мне лично нравится больше, но абрикосовая косточка не каждому по зубам.
Днём приехал Николо Беницетти. С возом арбузов, дынь, цветов, с бутылями, завёрнутыми в рогожу. Возница у него был ражий малый с подбитым глазом, парень не промах, забияка и говорун. Сам Беницетти — молодой франт, красавец и умница прибыл на белом коне. Со свитой каких-то не то телохранителей, не то дармоедов, с пьяным французским менестрелем и сворой собак. Собаки подняли гвалт. Ромина вышла их встречать, собаки лаяли, подбрасывая морды вверх, подковы скрипели щебнем, выбивая белый прах, арбуз упал и разбился красной зернистой глыбой с желтой отлёженной плешью на зеленом боку.
— Рад, рад, — кричал мне Беницетти, — Ромина сказала, что вы тут, в нашем захолустье.
Кефаратти мне про вас все уши прожужжал.
— Вы его знаете?
— Знаю — хорошенькое дело! Я с ним в кавалерии служил. Он не рассказывал? Он меня у французов из плена выкупал. Кефаратти неподражаем. Обоз какой-то отбил у неприятеля, продал барахло, меня выкупил. На следующий день под Форново-ди-Таро меня снова берут в плен. Грохнули по голове и всё — упал с коня, сдался. Опять в плену, и мне прямая дорога — гребцом на галеры. Конец, думаю, пропал. Какие могут быть игрушки?
Приезжает Кефаратти с белым флагом, к их капитану. Кефаратти имеет вид самый строгий и негодующий:
— Я внёс выкуп за мессера Беницетти, соблаговолите и всё такое. Намекает на честь дворянина, и прямо-таки бледен от ярости. Капитаном у них испанец дон Дестамуро -
трясёт башкой, ничего не понимает:
— Кому, — говорит, — вы дали выкуп?
— Достопочтенному идальго дону Четтамогульяди, — не моргнув глазом говорит Кефаратти. И это правда. Потому что накануне он меня выкупил у Четтамогульяди. Дон Дестамуро посылает денщика к своему земляку Четтамогульяди: спроси, он получил деньги за господина Беницетти? Возвращается болван-денщик: да, деньги получены. Кефаратти кладёт меня с пробитой головой поперек седла, и мы уезжаем. С охранной грамотой, в сопровождении баварского лекаря-шарлатана, и с почетным конвоем алжирских аргуэрос. Этого толстого лекаря Кефаратти потом изображал на фреске «Сошествие во ад».
Да, Кефаратти не рассказывал мне, как он воевал. Может, оно и к лучшему. Я никогда толком не знал, что делать, когда жизнь начинает кипеть вокруг меня. Весь этот бурный пенистый бессмысленный бульон приключений, счастливых совпадений, интриг и восторгов, что всё так благополучно закончилось. А дальше-то что? — всегда хотелось мне спросить. Что вы дальше делали своей спасённой пробитой головой? И в то же время я испытывал зависть к лихому молодечеству, красоте, здоровью и отваге этих людей.
— Мы едем на охоту, — сказал Бенецетти, — присоединяйтесь к нам, сделайте одолжение.
— Папа, папа! — запрыгала Азра, — поедем!
— Забирайте мою дочку и Ромину, а мне надо работать. Художник — человек скучный.
Я не мог принять предложения Беницетти. Какая-то ревность, раздражение и печаль всплыли со дна моей тёмной души. Что-то нравоучительное всколыхнулось во мне.
— Езжайте, — сказал я, — наловите фазанов.
Поздно вечером они вернулись. Потеряли менестреля и одну собаку. Собака вернулась через час, а менестрель сгинул. Зато они привезли с собой Кефаратти. Они всей охотничьей ватагой впёрлись в Анкону к Кефаратти на Санта-Фелличиа делла Брандиори, устроили у Кефаратти тарарам. Привезли его в Силигату. Я был ему страшно рад, обнял его. Напрасно я обижался, они славные ребята. Азра в восторге. Уже в сумерках мы поехали к морю. Пели песни. Сидели на песке. Говорили об искусстве. Молодые люди из компании Беницетти заезжали верхом далеко в море и ныряли в воду прямо с сёдел, возвращались мокрые, валяли дурака, брызгались друг на друга, сушились у костра. Я чувствовал, что мне бы может самому никогда не пришло бы на ум устраивать такие простые праздники, мне бы отсидеться, помолчать, порисовать. Но как же хорошо! Слушать добродушную болтовню, видеть хорошие лица и капать на штаны мясным соусом.
— Наши заблуждения станут догмой, — говорил Кефаратти, раздавая ломти буженины, — мелкие нынешние тираны завтра будут объявлены столпами свободы, оракулами зари братолюбия и мудрости.
— Говори проще.
— Грушу дай.
— Да к чему ты это говоришь? Нас уже не будет.
— Вот это меня и волнует. Мы создаём новый мир.
— О, дивный новый мир.
— Миранда.
— Мы создаём новый мир, а они потом решат, что мы расшатывали устои. Их только это будет интересовать — поза сокрушителя склепов традиции. А кому она нужна?
— Поза или традиция?
— Вкусы святой инквизиции безупречны. Устои в надёжных руках.
— Да, их чёрно-белые домино очень графичны. Вообще-то, я говорил о живописи. Что будет с ней?
— Настанет эпоха манерного письма, и наша простая кровожадность сменится кровожадностью утончённой.
Настанет свет, растает лёд,
И мальчик с дудочкой придёт…
— Они убьют зрителя.
— Я тут как-то пытался одного зрителя убить.
— Ромина, сойди с моей ноги.
— Отвяжись от Ромины.
— Кефаратти, ты слишком любишь своё время. Ты темпоральный патриот, тебя не пустят в царство небесное.
— Он создаст гильдию маляров во тьме внешней.
— Если останутся люди, рисующие детей и зверей, то не всё так плохо.
— Плохо будет, когда не станет ветчины.
— Тогда я отравлюсь.
— Кстати, в лавке Чидини есть отличный яд двойного действия.
— Один выпил — двое сдохли?
— Он не действует, пока жертва, принявшая яд, не выпьет вина.
— Такой жертвы и не сыщешь.
— Не пей вина, Гертруда.
— Так помните, Бонс, я говорю вам по чистой совести: слово «ром» и слово «смерть» для вас означают одно и то же.
— Надо бы запастись ядиком. Гости придут — нечего на стол поставить.
— Меня укусил муравей.
— Мы отомстим за тебя.
— Это вы на меня пукнули?
— Нет. Это от негодования. Я выражаю протест порядку вещей.
— Создатель щас всё поправит.
— Вот всегда: влюбишься — и неудачно.
— А ты влюбись удачно.
— Не интересно.
— Тогда сядь на гвоздь. Будет ого-го!
— Ещё Кедровский говорил: шутка должна быть доступной, но не настолько.
— Ромина, сойди с моей ноги.
— Зануда.
— Испанцы звали его Каброн.
— Верьте врагам. Враги говорят о вас правду.
— Пафос ваших циничных шуток нелеп, ваша ребяческая бравада и балаганные трюки мелки и бессердечны.
— Ты несправедлив, Кефаратти. Мы избегаем простых слов доброты, боимся неярких полутонов любви…
— Вот опять он произнёс это слово.
— … Мягкости жизни не признаём не от сознания собственной грубости, а от неумения, робости перед душевной невнятицей. Брутальная доброта нам претит, а правильно мы не умеем. У нас нет другого выхода.
— Если выхода нет, оставайтесь на месте. Лучше не уметь и ошибаться, чем сводить всё до уровня Пульчинеллы и Коломбины. Вы так скупы на ласковые слова, что можно подумать, они сто́ят вам больших денег. Тем более, что соблазнительно думать, что всё хорошо, лишь бы султан Баязед не высадился у нас второй раз, и мы не разделили бы участь Константинополя. Нам не повезло с турками, потому что их можно малевать чёрной краской, как чертей в аду, не стесняться. И на фоне таких небывалых, умозрительно прекрасных в своей абсолютной демонической прелести турок, на их фоне можно не вдаваться в тонкости. Это моральная западня.