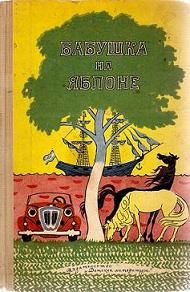Пит Рушо - Итальянский художник
Есть хочется. Затянулась моя прогулка. Но как хорошо, даже если не будет, даже не для меня, но где-то же есть миска густого супа, шипящая сковорода с котлетами, мокрая зелень в дуршлаге, огурцы, редиска и голодный кот, который вспрыгивает вам на колени, суёт морду в тарелку, задирает хвост прямо вам в лицо, словом, не владеет собой от возбуждения и нахлынувших на него чувств. Как я его понимаю. Надо возвращаться.
Скоро вечер, кричат перепёлки. Прийти домой, зажечь лампы, рисовать какую-нибудь битву: на тёмном фоне вишнёво-коричневом, в черноту, с небом как головешка, чтобы частокол копий светился прозрачной желтизной сиены; флаги, тюрбаны, янтарные попоны с ромбами бледных красных гербовых диагоналей. Ночная битва на пшеничном поле. Тёмные тяжёлые кони. Вполоборота, через плечо, в глубину, всё уходит в неизвестность. Всё дальше в ночь, куда не долетает уже спасительный отсвет вечернего горизонта, и хламида висит мешком на сутулой спине. Там вечность, конец августа, предел милых мелочей жизни, там чёрные паруса темноты, величия, молчания, немоты. Там кончается дыхание. Всё остаётся, но дыхания не будет, и нельзя уже сказать, все отвернулись, а я тут всё равно с банальностями любви, но сердце не бьётся, кожа сухая, пустота, нельзя оправдаться или заплакать. Обозы втягиваются во мрак, пыльное небо падает до земли, не пропускает света и звуков. Зрение бесполезно. Нет больше верха и дна. Тайна лучше, чем её разгадка, и завтрашний день нам неведом, не важно, живы или мертвы, как войдём мы в неизвестное будущее. Будущее не интересно, интересна минута текущая и тайна, между тайной и сейчас бьётся ещё какая-то жилка, слезинка холодит онемевшую щеку. А полнота смерти велика, не стоит с ней шутить. Смерть — это не то что жизнь нас не любила, смерть сама по себе, она не спросит. Потеря воли и свободы, но без рабства. Вериги личности, камера заблуждений, пытка надежды, костёр памяти — всё позади. Имя смерти, не моё ли собственное? Я окликаю жизнь внутри себя этим именем, это короткое слово — весь мой мир. И вдруг исчезли дворцы, минареты, горы и стаи скворцов, я забыл о дорогих мне людях. Меня зовут, она за спиной у меня. Надо обернуться. Я оборачиваюсь медленно, кружится голова, всё плывёт, накреняется, и я лечу в темноту, куда-то вбок и не ощущаю удара падения. Всё? Как вечером после заката, гладь сонного пруда черна и масляниста, мошки изредка ударяются в зеркало воды, капельные круги, как будто накрапывает мелкий реденький дождик, лягушки спят, звезда уже блестит под кустом ивняка, тростник замер. Вдруг — бултых! выпрыгивает донный карп, бьёт хвостом. Звон дальнего колокола давно растаял, уснул в холмах. А тут карп.
Жажда чего-то обычного, прекрасного — вот она есть. В этой пустоте — недовольство покоем должно быть. Не бывает абсолютной тирании безгласности и такой бесцветной черноты, что даже о чёрном цвете не приходится говорить. Будет вечно какое-то зёрнышко в башмаке. Голос спросит: ну как? Хорошо, — скажу я. Но я, в каком-то смысле Рахиль, и мои слёзы, мои слёзы, их больше, чем звёзд на небе и воды в морях. Стал бы я жить? Нельзя сказать: поживи за меня. Нельзя нанять смертника, чтобы умер вместо тебя.
Нельзя уклониться, небо лежит на плечах, тянет вверх, и ноги покидают землю. Так что вроде как надо отвечать «да», но слово не подходящее, потому что само это «да» имеет тенью «нет»; здесь нужно молчание, концентрация смыслов в молчании велика, и каждый молчит неповторимо. Поэтому я так многословен в мыслях. За что люблю Лючию-Пикколли, что она никогда не спрашивает, вкусный ли у неё получился ужин. Во-первых, он всегда вкусный, а во-вторых, другого ужина просто нет. Я возвращаюсь домой. И камешки на дороге возле дома шуршат так, как шуршат они только в одном месте на земле — только здесь, перед крыльцом.
Ну вот. Про Ромину. Когда это началось? Да и как такое могло случиться? Нет, я понимаю: сердцу не прикажешь, и всякие такие слова из арсенала престарелых мудрецов.
Мы съездили в Анкону. С Роминой удалось договориться, чтобы я рисовал с неё Пенелопу.
— Мне нужна модель, — сказал я Ромине без лишних предисловий, — моделью будешь ты. Платить буду десять венецианских гроссо в неделю. Живём мы с Азрой в Силигате. Тюфяк и питание мы тебе предоставим.
Она была босой рыбачкой-контрабандисткой, а я был богат и даже знаменит. В Анконе меня узнавали на улице. В Анконе, вообще-то, все друг друга знали, не так уж велик был наш город, но всё же, всё же. Некоторые дети, из той известной породы, что заглянули сюда на минуточку из другого мира, но застряли здесь и мучительно дожидаются, когда придет кто-то, чтобы их сменить, такие дети уже тогда пугались меня при встрече. Я был старше Ромины лет на двадцать, мы были из разных поколений. Для нее я был ровесником фараонов, и случись мне сказать, что я бился с филистимлянами при Луксоре, она ничуть не удивилась бы. И более того, когда я разыскал Ромину, увидел её, говорил с ней – ничего я не почувствовал. Я, старый дурак, специально ради нее встал ни свет ни заря, приготовил невкусный завтрак, разбудил Азру. Мы с Азрой протряслись в седле невесть сколько верст, попали под дождь. Я с маленьким ребенком проехал половину Анконской Марки ради того, чтобы только на нее взглянуть. Взглянул — ничего особенного. Ничто не шевельнулось в моей душе: струны не зазвенели, соловьи не засвистали, розы, фиалки – не знаю, что там еще — не зацвели. И земля не разверзлась у меня под ногами. У неё была розовая ссадина на тёмной руке. Руки у неё была как у солдата, широкие и крепкие, с мозолями от вёсел. И теперь я предлагал ей десять здоровенных серебряных монет в неделю, чтобы писать с нее Пенелопу. То есть, чтобы она время от времени сидела неподвижно — и всё. Десять гроссо. Да из нее Пенелопа, как из меня архангел Михаил. С нее Одиссея можно рисовать, а не Пенелопу.
— Три дуката ежемесячно, — сказала она, и зрачки её осветились. «Не может быть» — подумал я, то есть я ничего не подумал, потому что все слова исчезли из мира.
— Три. Дуката. Ежемесячно, — повторила она раздельно, подкрепляя слова поясняющими жестами, как будто говорила с иностранцем или душевнобольным, — и десять флоринов задатка.
— Пятнадцать гроссо, — в это трудно поверить, но я торговался, — пятнадцать гроссо в неделю и по пяти флоринов вознаграждения за каждую фреску, на который ты будешь изображена. Рисую я быстро. Не прогадаешь.
Мы договорились. Я был недоволен. Во мне что-то дрожало, подпрыгивало. Что-то беспокоило меня. Я был в бешенстве и проклинал себя. Меня как будто окатили холодной водой. Я злился на себя, чувствовал себя скрягой. Чувствовал себя покупателем на невольничьем рынке. Я готов был бросить к ее ногам все сокровища мира, но помилуйте, этой дуре платить пятнадцать серебряных монет в неделю? Зачем я её нанял? Пенелопу я и так бы нарисовал прекрасно. Ничего особенного в Ромине нет. Я ничего не чувствую.
Это не моя муза. Нужна была натурщица — да в соседней деревне таких Пенелоп сколько хочешь. Любую бабищу задрапируй хитоном или пеплосом — или как там его? Рисуй — не хочу. Да на такие деньги я нанял бы массовку в Троянской войне, и устроил бы похороны Патрокла по высшему разряду. Я! — мастер линии и цвета! Зачем я её нанял? Хочу ли я, чтобы она как-то общалась с Азрой? О чём с этой Роминой говорить? Зачем я опять угодил в какую-то ловушку? Единственная и неповторимая моя любовь — Сицилийская королева Дикима. Дочка герцога Фандуламаччи — королева Сицилии и девушка Ромина – босая рыбачка, вся как спелый чернослив, в выцветшей юбке из парусины. Ну, положим, не из парусины, но что это меняет? Такого не может быть. И я так не могу: у меня же не два сердца.
Мы с Азрой зашли в москательную лавку, я с досады накупил кучу ненужных мне красок, разозлился еще больше, и мы уехали в Силигату. Ромина должна была приехать сразу вслед за нами, но приехала она через полторы недели. Это время я ждал её. Я всё это время её ждал, перестал рисовать, и переходил от мрачной хандры к надеждам и сладким мечтам с необыкновенной быстротой. Я злился на Ромину, собирался ехать в Анкону. В гневе, страхе и трепете.
Ромина приехала ночью.
— Не зажигай света, — сказала она тихо, — не шуми. Мне нужно вещи сложить. Говори куда?
Я продрал глаза, сердце у меня билось, и я не сразу сообразил, в чём дело. Ночь была не очень светлая. Когда я понял, что Ромина привезла целую телегу мешков и ящиков, прикрытых сеном, я разозлился и не мог слова выговорить.
— Хорошо, я сложу это в дальней комнате, а ты распряги лошадь, — она взвалила себе на плечо большой ящик и понесла его в внутрь виллы. Мне ничего не оставалось, я распряг лошадь и стал таскать мешки и ящики вместе с ней.
— Мне нужно умыться, — сказала она, — я очень устала.
Я поливал ей из кувшина. Она фыркала и требовала лить воду на шею и на затылок. От неё пахло морем, потом, полевой травой, чем-то домашним. Я дал ей полотенце, она лохматила волосы, отдувалась.