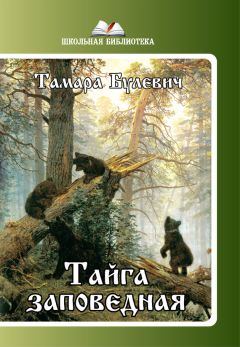Рувим Фраерман - Дикая собака Динго
Однако никто не отвечал. И Филька ушел назад по глубокому снегу.
С Колей они снова сошлись у ворот. Затем забрались в раздевалку, в самый дальний угол, и здесь с тревогой поглядели друг другу в глаза.
– Что теперь делать? – спросил Филька.
И вдруг услышали они тихий плач. Плакал кто-то в темноте у стены, где сторож складывал дрова для печки.
– Таня! – крикнули они оба и подошли.
Но это плакала Женя, втиснувшись между стеной и печью, и лица ее не было видно.
Филька повернул ее за плечи к себе.
– Ты никуда не ходила? – спросил он.
– Нет, – ответила Женя.
– Так чего же ты плачешь?
– А может быть… – сказала она, плача, – может быть, она уже умерла.
Тогда Коля, который ни о чем не спрашивал и ни о чем не говорил, отошел в угол и сел на пол, прижав к коленям голову.
Между тем наверху в комнате, о которой все забыли и где обычно хранилось пионерское имущество, спала Таня.
Флажки и плакаты на длинных древках со всех сторон окружали ее. Портреты висели наклонно, как птицы, готовые сняться со стены, барабаны валялись на подоконнике, горны блестели на гвоздях.
Пионерское имущество! Мир звучных предметов смотрел на нее из углов.
Как горько было расставаться с ним даже во сне.
Даже во сне, говорю я, потому что, увидев, как тяжело это было для Тани, благостный сон пришел к ней, и она крепко заснула в этом углу, где просидела с самого утра на толстом матраце, набитом опилками.
Но и этот добрый сон ничего не мог поделать с ее недремлющим воображением.
И снилось ей собрание звена.
Снилось Тане, будто в этой самой комнате, где она спит, сидят ее друзья – кто где: на барабанах, на табуретах, на деревянной кобыле, обитой черной клеенкой. Движения их грозны, лица суровы, и каждый взгляд направлен прямо в сердце Тани, но не доходит до него. Он дрожит и ломается, точно луч, заслоненный внезапно рукой.
– Судите ее страшной местью, – говорит человек, которого Таня не знает.
Одежда его необычна: к шинели пришита пелеринка, воротник из куницы блестит на его плечах, а лица совсем не видно – длинные волосы закрывают его с боков.
– Судите ее, – говорит он снова, – она жестока.
– Да, да, она жестока, – повторяет за ним Женя. – Это она велела зажарить мою красивую рыбу. А ведь рыба была золотая.
– Судите ее – она завистлива.
– Да, да, она завистлива, – повторяет толстый мальчик. – Она завидует Коле, это мы видели все. Она повезла его в буран, чтобы совсем погубить.
А голос Тани нем, губы мертвы, ничего он не может сказать.
И человек в пелеринке подходит к ней ближе, а Таня отступает к стене. Она со страхом узнает в нем Гоголя, портрет которого висит над дверью.
– Ах, я так несчастна! – шепчет ему еле слышно Таня. – Кто защитит меня? Я ничего не знаю.
Она переводит свой взгляд повыше и видит: светлые облака, проходящие мимо в небе, заглядывают потихоньку в окно. Все они высокие, все одеты в блестящие латы, и блеск их лат, падая на пол, журчит и струится подобно маленьким ручейкам. И все они стремятся к Тане.
Она подбирает ноги и легко отрывается от земли.
Она летит, как летают все во сне. Никто ее не может догнать. И комнаты давно уж нет, и любимое дерево Тани, растущее во дворе под окном, остается далеко внизу. Как ловко обогнула она его вершину, не задела ни одного листка!
Широкий свет простирается во все стороны от тропинки, по которой она теперь идет.
Она поднимается в гору. Кусты голубики шумят у нее под ногой. И все круче тропинка – вода и камни катятся по ней со звоном.
И с вершины открывается перед Таней лес, уходящий далеко по склону. Но какой это странный лес! Она никогда не видела такого. Это не лес и не мелколесье, которое она знает с детства. Низкие деревья держат свои ветви простертыми прямо над самой землей. И все они покрыты белыми цветами. В тихом воздухе кружатся лепестки, нежно розовея на солнце.
– Что это? – спрашивает Таня в восторге.
И в звоне воды и камня слышится ей ответ:
– Это цветут сады, Таня.
«А где же тут пихты? – хочется Тане спросить. – Я их не вижу совсем».
Но лес исчезает.
Она отправляется дальше и идет теперь уже по ровной дороге, где нет ни камней, ни склонов, и останавливается на краю ржаного поля. Тени знакомых орлов плывут по нему, и перед взором Тани поле колышется вверх и вниз, точно небо во время качки. А колосья шуршат и трутся друг о друга.
– Как красиво! Что это? – спрашивает Таня, замирая.
И в ровном шуме поля слышатся ей слова:
– Это зреют наши хлеба.
– Ах, я люблю, я люблю, – беззвучно шепчет Таня. – Или все это сон? Все сон! Ну конечно, я сплю. Ведь мы живем так далеко.
Но солнце внезапно темнеет. И Таня видит, как черная туча в клубах тумана и в клочьях мчится над полем прямо на нее. Никогда не виданные, тонкие, как волос, молнии скачут в шумящую рожь, и Таня в ужасе падает на колени. Долгий гром прокатывается по небу от края до края его. Сон кончился, но Таня не проснулась, и гром продолжал греметь.
В коридоре перед дверью комнаты стояла маленькая девочка. На шее ее висел барабан. Она стучала, пристально глядя, как легкие палочки прыгают в ее руках.
Она упражнялась.
И на этот гром, на отзвук его, раздавшийся в гулком коридоре, поднялись по лестнице дети: сначала Коля, за ним Филька, и Женя, и толстый мальчик, ступавший по ступеням тяжело. А Костя-вожатый вдел рядом с Александрой Ивановной, и голоса их были тихи – они не будили эха под потолком.
Девочка же продолжала стучать.
Коля остановился возле двери и подождал, пока не подойдут остальные.
– Вот свободная комната, – сказал он, – мы можем здесь провести собрание нашего звена.
Он открыл дверь и вошел тихо первый, не глядя по сторонам. Но, и не глядя, искал он Таню то мыслью, то сердцем, все время думая о ней. И неожиданно увидел ее в углу на толстом матраце, который подстилают под ноги при очень высоких прыжках.
Он открыл губы, чтобы произнести ее имя, и не произнес. Он присел на корточки, чтобы тронуть ее за плечо, и не тронул, потому что она еще крепко спала и ресницы ее были влажны, а лицо уже высохло от слез.
И Коля, обернувшись к другим, замахал на них руками. Все остановились, глядя, как Таня спит.
– Пусть спит. Не трогайте ее никто, – сказала шепотом Женя, потому что у нее было вовсе не злое сердце, хотя чаще, чем другие, она была права и заставляла Таню плакать. – Неужели мы не можем провести это собрание без нее? – добавила она. – Ведь Коля же нам все рассказал, мы знаем правду.
Александра Ивановна подумала немного. Она посмотрела каждому в лицо и увидела, что это желание было добрым. Она закрыла рукою губы – они против воли ее улыбались.
– Конечно, мы можем, дети, – сказала она. – Я разрешаю вам это. Я думаю, что Костя согласится со мною.
И Костя-вожатый, тоже посмотрев каждому в лицо, увидел, что это желание было общим.
– Хотя я за пионерскую дисциплину, – сказал он, – но по такому случаю мы, разумеется, можем. Это решение общее. А если так, то мы можем всё.
Тогда Коля поманил к себе Фильку и сказал ему:
– Если мы можем всё, то выйди отсюда и шепни на ухо барабанщику, что я его сейчас убью.
Филька вышел.
Он слегка ударил девочку по спине между лопатками. Но и от этого слабого удара она присела, ноги ее подогнулись. Она перестала стучать.
– Человек заснул, – сказал ей Филька, – а ты гремишь на весь мир. Неужели нет в тебе никакой совести? Хоть самой маленькой, какая должна у тебя все-таки быть по твоему малому росту?
И все удалились прочь, неслышно шагая гуськом друг за другом, и за ними шла девочка с барабаном, подняв свои палочки вверх.
XIX
Дети не разбудили Таню. Она проснулась среди тишины и ушла сама, и румяный от заката воздух проводил ее до самого дома. Он облегчил ее грудь, голову, плечи, но совесть продолжала болеть.
Как расскажет она все это матери, как сможет ее огорчить?
Но дома, кроме старухи, она снова никого не застала.
И впервые Таня рассердилась на свою мать.
Она не попросила чаю у старухи, ничего не съела и, не снимая одежды и обуви, легла в постель, хотя мать всегда запрещала ей это делать.
«Но пусть, – решила Таня. – Что же я сделала дурного и кто виноват, что все так случилось, что нет у меня ни сестер, ни братьев, что я одна жду сейчас неведомого наказания, что старуха стара и что в целом доме некому слова сказать? Что всегда одна, что всегда сама? Кто в этом виноват – не мать ли? Ведь почему-то оставил ее отец и ушел. Почему?»
Таня лежала долго, не зажигая огня, пока устремленный в сумрак взгляд ее не устал и веки не погасили его.
Таня как будто не дремала, готовая чутко встать на голос матери или на звук ее шагов.
Однако она не услышала их.
Мать потрясла ее за плечо. Таня очнулась. Огонь уже горел, но сон не отошел от нее, и среди смутных предметов и чувств, окружавших ее во сне, увидела она склоненное над собой лицо матери. Оно тоже было смутным, точно тень покрывала его, и выражало оно такое же смутное волнение и недовольство, а взгляд стоял неподвижно на одном месте. И Тане вдруг показалось, будто рука матери поднимается над ней для удара.