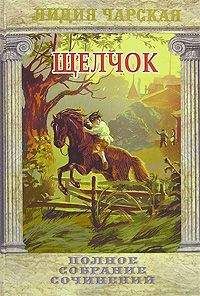Лидия Чарская - Том 38. Огонек
Завтра приедет из ближайшего города священник. Я буду исповедоваться и причащаться. Тогда, наверное, легче станет в груди. Всех тежело-больных исповедают и причащают… Вот и я попросила.
Принцесса, если ты будешь так плакать, я не пущу больше тебя к себе! Я так люблю твое красивое, задумчивое личико и мне совсем неприятно видеть его раздувшимся, как у утопленника. Да!
Я ее просила не подходить ко мне близко и всех других тоже.
Ведь это, что у меня, может передаться другим. Ах, Золотая, Золотая, если б ты могла прилететь ко мне на крыльях!
— Послушай, я ужасная стала дурнушка? — спросила я Принцессу сегодня.
— Нет! Нет! — ты такой же хорошенький, как и раньше, Огонек, только ты стала такой худенькой. Но все это глупости, когда ты поправишься…
— Не говорите пустяков, очаровательная Принцесса, вы знаете прекрасно, что Огонек не встанет уже больше с этой постели и… и…
Я попросила ее причесать меня получше в тот день, когда приедет Золотая. Это будет скоро, скоро теперь! Три дня… только три дня и три ночи осталось до нашей встречи.
— Принцесса! В тот день, когда она приедет, ты спустишь шторы с утра в этой комнате, чтобы Золотая не заметила, как я исхудала и изменилась. Слышишь? И всюду разбросаешь подснежники, которые Адам ежедневно приносит мне теперь из леса. Слышишь Принцесса? Пусть будет здесь нарядно, как в праздник.
— Да, да, Огонек, мои милый Огонек, успокойся, все будет по-твоему… Так она мне обещала.
А потом я ее еще попросила на ушко, так тихо, тихо, тихо…
— И потом ступай, Принцесса, в дочки к моей маме. Право, вы так подходите одна к другой! Ведь ты меня очень любишь — правда?
— Как перед Богом правда, родная, — и она опять разрыдалась, говоря это.
Бедняжка! Должно быть, ей нелегко.
— Моя мама тебя уже любит, Мариночка, и будет рада, если, если… Ах, как хорошо было бы, если бы ты жила с нею вместо меня, после, когда… и ты была бы ей вместо дочки. Вы бы стали вспоминать далекого Огонька и… и…
Обрываю на полуслове. Опять этот приступ кашля… Какая мука! И слабость… слабость… без конца.
Апреля… 190…
Телеграмму от нее!
Будет завтра!
Господи! Благодарю Тебя, что вспомнил бедного умирающего Огонька… Продли Свою милость! Ты знаешь, чего я хочу, Боже!
Сегодня исповедовалась и причастилась. О, как легко и хорошо мне стало… Совсем хорошо. И я сильнее даже стала, как будто.
Сейчас напишу письмо Золотой и заложу в эти страницы на случай, если… если… Но я верю и надеюсь увидеть ее хоть глазочком, мою незаменимую маму. Еще раз! Только раз. Да, да, одним глазком…
Чуточку, да, да. Золотая!.. Скоро твой глупенький Огонек потухнет на вид… Не горюй, мамуля! Ты ведь знаешь: делу пособить нельзя. И это совсем, совсем не страшно… И потом, я чувствую, что тебя увижу. Да, моя мамочка Золотая, увижу тебя!
Не плачь обо мне… Не горюй, счастье мое, мамочка, родное сокровище мое! Мне легко. Мне хорошо… Я знаю, знаю, что мне нечего бояться. Разве я сделала что-нибудь уж очень дурное? Моя Золотая! Знаешь ли, приятно сознавать, что все кругом так любят, любят тебя! Я даже не стою такой любви, мое сокровище!
Право же, нет другой такой балованной девочки в мире, и моя коротенькая жизнь, могу сказать, прошла так счастливо и прекрасно!.. Только одно грустно! Я не умела доказать тебе ничем, как я люблю тебя, Золотая, а между тем мое сердце так полно, так ужасно полно любовью моей к тебе. Я мечтала сделаться художницею, как папа, чтобы ты могла гордиться твоим маленьким, глупеньким Огоньком.
Но… но… мамочка! Кто же знал, что это так случится?… Впрочем, я утешаю себя мыслью об одном: огоньки не могут гореть долго. И раз мне суждено было стать одним из них, я не могу составить исключения в ряду всех прочих. Ведь правда? Не плачь же, мамуля моя, когда я уйду от тебя, я все же останусь всегда с тобою… и с Принцессой, которую ты, может быть, согласишься взять в дочки вместо меня? Да? Возьмешь, мое сердце, моя ненаглядная, чудная мама? Ох, я бы не знаю, как хотела, чтобы завтрашний день настал сегодня. Но нельзя. Нельзя… Утешься хоть одним, мамочка: я совсем не сильно страдаю. Право. И это далеко не так страшно, как пишется в книгах. А когда я думаю о тебе, мне становится совсем легко. Совсем. И когда молюсь — тоже. Теперь я молюсь часто и подолгу, лежу и думаю о Нем.
Толстая Ирма неподвижно, как мумия, сидела у окна, зажав платком свой широкий рот, чтобы не разрыдаться навзрыд, что могло случиться с нею каждый раз, когда она взглядывала на знакомую худенькую фигурку, беспокойно подергивающуюся на ее белой постельке. Сестрички, обнявшись, тихо, беззвучно плакали в углу. В соседней комнате плакали малютки. Живчик, быстроглазый смуглый подросток, сведя в одну прямую линию черные густые брови, до крови кусала себе губы всякий раз, когда оттуда, с узкой белой постельки, несся страшный по его роковому значению красноречивый хрип. Бывшая Слепуша, тоненькая, хрупкая девушка с кроткими покорными глазами, жалась к Принцессе, своей молчаливой лаской поддерживая ее.
Доктор взглянул на часы:
— Поезд приходит в два. В четыре, судя по телеграмме, она будет здесь. Я сделаю больной вспрыскивание камфары. Это подкрепит силы девочки.
Марья Александровна тихо качнула головою. Как много седых волос прибавилось в этой измученной за чужих детей, за их благополучие и счастье, голове. Сколько седых волос! Немало пришлось ей, Рамовой, пережить за эту зиму. Сначала операция Раисы, потом эпидемия скарлатины и наконец эта молодая, чистая, как луч солнца, угасающая перед нею жизнь. О, если бы она могла отдать свою старую, изжитую, за эту юную, прекрасную, она бы, их старая начальница, без колебания сделала это! Но увы! Судьба не спрашивает. Каждому предопределено по назначению. Остается склонить голову и терпеть. Покорно терпеть.
Она взглянула полными слез глазами на эту борющуюся с агонией юную жизнь и отвела прочь глаза, боясь испугать подступившим к ее груди рыданьем больную.
Огонек тяжело дышал. Хрип, вырывавшийся из маленькой исхудалой грудки, звучал зловеще. Огромные на пожелтевшем и крохотном от худобы лице глаза смотрели с каким-то мучительным недоумением.
После вспрыскивания камфары они заблестели слабым матовым блеском. Больная почувствовала себя лучше. Беспокойный выжидательный взгляд приковался к стрелке стенных часов, повешенных как раз против ее постели. Глаза уже слабо различали не только часы, но и всех находившихся в комнате, но она все смотрела, смотрела с непонятною настойчивостью и упорством. На ее худенькие плечи накинули розовую кофточку, ту самую кофточку, которую сшила ей собственноручно перед их разлукой ее мать.
Огонек так трогательно просила об этом еще накануне. Ее пышные, теперь поредевшие за время болезни косы перевили также розовыми лентами с кисточками, которые хранились на дне ее сундучка для праздничных дней. Эти пышные темные волосы, так покорно улегшиеся двумя волнами вокруг ровного, как ниточка тонкого пробора, придавали ей вид Мадонны, этому бедному, маленькому, с такой трогательной покорностью уходящему из мира Огоньку.
Сегодня поутру Принцесса причесала свою умирающую подругу, надела эту розовую кофточку на ее худенькое, ставшее теперь таким легким, легким, как перышко, тело, обливая слезами и розовую кофточку, и толстые косы больной.
Нарядная, напряженная, она лежала теперь на своей узкой белой постельке. Худые-худые, желтые, как воск, ручонки перебирали конвульсивными движениями край одеяла и простыни. А глаза не отрываясь смотрели на часы, на круг циферблата, на медленно-медленно подвигающуюся стрелку.
Убийственно тянулось время. С каждой минутой слабел Огонек, не различая уже близких, не улыбаясь им больше, как несколько часов назад. Доктор приложил ухо к ее сердцу. Оно стучало так тихо-тихо, как выстукивают маленькие, совсем маленькие карманные часы, и взял кукольную руку Огонька своей большой грубой рукою. Пульс еще был, сердце жило, но сам Огонек уже догорал. Да, это было видно, видно по всему. Огромные глаза потускнели снова.
— Теперь уже скоро… — чуть слышно произнес доктор, многозначительно взглянув на стоявшую около него Марью Александровну.
— Не знаю… почему же… почему она не едет! Последняя телеграмма говорит… сегодня… сейчас должна она здесь быть! — сорвалось отчаянным шепотом с губ последней.
— Еще есть время, — попробовал утешить доктор.
— Но смотрите на девочку… Ей все хуже и хуже с каждой минутой. Теперь уже она не узнает мать.
— Еще четверть часа у нас в запасе… Может быть… кто знает, она их проживет!
Марья Александровна взяла свесившуюся с кровати слабую ручонку и поднесла ее бережно к губам.
Ресницы Огонька дрогнули, но взгляд не оторвался от циферблата.