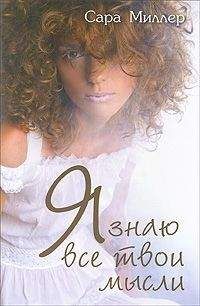Александр Торопцев - Азовское море и река Рожайка (рассказы о детях)
— Ну как канады? — встретил его Ленька на кухне. — Скажи — вещь!
— Вещь, — Славка сел на стул.
— Долго ты что-то. По поселку кругов пять дал? Все правильно. Надо пользоваться моментом. А мы с твоей матерью договорились. Канады скоро мне малы станут, продам вам по дешевке. Не робей, Славка, со мной не пропадешь.
Славка снял коньки, побежал в комнату.
— Мам, а правда вы договорились. Канады-то Леньке скоро…
— На следующий год. Зима кончается, а за лето у тебя нога вырастет, и Леньке они совсем малы станут.
— Хоть на следующий, — Славка сел на кровать и, чувствуя, как приятно отходит от тела боль и холод, размечтался о том, чтобы поскорее выросли ноги, его и Ленькины.
Пришли холодные майские дни, шумные. Шумели листья на деревьях и белые платья вишен и яблонь, шумел над рекой ветер, будто воду всю выпить хотел Рожайкину, горлопанили люди — глотки не жалели. Тихо вели себя лишь трава коротконогая да одуванчики — майские веснушки, расплодившиеся в полях и оврагах, на свалках и у амбаров, возле старого комбайна и на уставших стенах церкви.
Невеста сидела в белом и была вся в веснушках. Много веснушек, майская невеста. Первая Славкина невеста, он первый раз на свадьбу попал и так близко, как учительницу в классе, видел невесту. Ничего себя, настоящая. То сидит-молчит, как одуванчик, глаза боится поднять сильно голубые, то как схватит жениха в охапку и ну его мять под громоподобное «Горько!»
Славка сидел рядом с Ленькой, по школьному — на «Камчатке», на дальнем от невесты конце стола. «Братан мой, сменщик, — говорил всем Ленька, показывая на Славку и толкая его в бок. — Ешь больше, а то баян не удержишь». А после очередного тоста поднимался и орал со всеми «Горько!» Раз сто крикнули люди, пока невесте не надоело мять жениха веснушчатыми руками.
Сменщику сначала было интересно, и салат перед ним стоял мировой, в жизни он такого салата не ел. Но вскоре и невеста ему наскучила, и салат, и морс, которого он выпил, если посчитать все «горько», около ведра. Тяжко было Славке, живот отвис, как у мелкой рыбки-пузухи, в глазах туман от салатовой сытости и вареной колбасы, и, главное, в чиру с местными пацанами очень хотелось ему сыграть. А Ленька то и дело ему на ухо: «Не уматай, смотри, игрок хренов».
Вдруг какая-то тетка крикнула нараспев:
Дайте в руки мне гармонь,
Золотые планки!
И резво махнула рукой:
— Плясать хочу!
«Кондиция номер один», — шепнул Ленька, подхватил из-за спины баян и на всякий случай спросил у тамады:
— Песню для разгона или как?
— «Цыганочку», Леха!
Ленька поднялся, поправил лямки и, пропуская свадебный люд, выдал заход с такими вариациями, что тамада, крупный рыжий дядька (он невесте дядей был), крикнул раскатисто:
— О, шпарит!
Все вылетели на улицу. Вышел и Славка, встал позади Леньки в ожидании кондиции номер пять, вздохнул: пацанов разогнали местных. А ему так хотелось сыграть. У него в последнее время пруха на денежные игры пошла. В расшибалку, чиру, бебе, пристеночку, чет-нечет он выиграл целых пять рублей, полтайника медяками набиты, не понятно, что с ними делать.
Ленька выдал «цыганочку», «Русского», люди запросили вальсы, танго, и вдруг кто-то из толпы крикнул:
— Танго, Леха! Белый танец!
У Славки екнуло внутри. Опередили, догадались, подумал он, и у Леньки тоже дрогнуло внутри: спиной неуклюже повел баянист, но справился с собой и сыграл первые аккорды танго. Славка пел про себя: «Вдали погас последний луч заката, и сразу темнота на землю пала, прости меня, но я не виновата, что я любить и ждать тебя устала».
«Зачем играешь?» — хотел спросить он, но Ленька хитро подмигнул ему: «Все идет, как надо».
А на поляну белая невеста вывела жениха. Тот обнял ее за талию, выставил по-пижонски левую руку в сторону и пошел фигуры делать под Ленькину музыку: и крутанет веснушчатую, и на руку ее кинет, к шее прижмет. Такого даже на поселке не делали, хотя тренировал Ленька жилпоселовский люд каждый вечер. Славке стало обидно, но, когда танго кончилось и все захлопали бурно баянисту — так захлопали, что деревья в палисаднике дрогнули белым цветом, Славка понял, что под такую классную музыку даже шпалы сбацают мировой танец. И невеста хлопала громче всех, и радовался этому Ленька.
А жених, кореш чуть выше баяна, если на каблуках, похлопал Леньку по плечу:
— Хорошо играешь. У меня в армии баянист такой же был.
И пошел с невестой в дом: командир армии, начальник баяниста. Гордый, на голове ежик, а невеста все равно чуть выше. У нее начес — ого и шпильки с карандаш, только что купленный. Специально что ли так…
Ленька махнул рукой по голове, длинные русые волосы легко скользнули между пальцами, улеглись.
— Нам, лично, до армии как до луны пешком! — крикнул он и повернулся к молодежи. — По современней что-нибудь.
— Буги, Ленька!
С надрывом дернулись меха, басы низким голосом, с хрипотцой пропели в ритме буги незатейливую мелодию, в узких брюках парни вышли в круг, цветастые девчонки в крепдешиновых платьях окружили их и, вскинув руки, шпилек не жалея, себя не жалея, стали они бацать буги.
Внизу, огибая деревню, бежала Рожайка, струясь невредным смехом на мелкой воде, дальше, на взгорье, хмурился лес, а Славка, оценивая местных стиляг, гладил себя по животу: «Наши делают лучше!»
— Молодежь! — раздался голос тамады. — Пора к столу!
Славка глянул на Леньку, но тот был неумолим:
— Пойдем, нечего дурочку валять. Игрок мне нашелся хренов.
И опять был салат и морс, отчаянное «Горько!», а потом буги и вальсы. И опять был салат и морс. Даже солнце устало от такого пережора, а люди ели и пили, плясали и пели. А деревенские мальчишки все играли в чиру на зависть Славке. Он уже ненавидел морс, салат, вареную колбасу и невесту с ее веснушками, перестал понимать Леньку, который тащил его сюда, в село Никитское, по делу, а теперь, кажется, забыл о нем. Славка уже знал, что дела не будет, «белого танца» не будет. Он страдал, как страдает человек, которому прет пруха, а играть не дают, он не верил ни во что хорошее.
Вновь вышли на улицу. Посерело. Разбежались по домам пацаны. Грустный Славка встал за спиной баяниста. Тот сказал:
— Готовься. Кондиция номер пять.
И сыграл «цыганочку». Получилось у него особенно хорошо. На Леньку, казалось, не действовал ни салат, ни морс, ни деревенская самогонка, запах которой стелился по всей округе. И народ плясал, хоть и не жилпоселовский, но здорово!
— Подкрепись, — веселый тамада поставил на баян стопку и тарелку с огурцом. Ленька махом выпил, хрустнул огурцом, перешел на фокстрот. То есть все по плану. После фокстрота (а уже стемнело) баянист встал, передал Славке баян, шепнул: «Вальс, «Подмосковные вечера» и … понял?»
— Все понял.
«Дунайские волны» Славка играл на берегу Рожайки с чувством, на которое способен лишь матерый морской волк. Хорошо он дома потренировался перед свадьбой. Сто пятьдесят семь раз сыграл его за пару дней. Соседи чуть с ума не сошли, даже Леньку ругали. Зато теперь ни одной помарочки, ни одного сбоя не сделал Славка. Кружились пары — так здорово! Его даже на «бис» попросили сыграть, а тамада на радостях вынес стопку с мутной жидкостью, буркнул, пошатываясь:
— Тяни. Щас закусь приволоку.
Славка украдкой вылил самогонку под ноги и заиграл «Подмосковные вечера». Пели, танцевали, слушали, как бы сравнивая слова и музыку с тем, что виделось и слышалось вокруг. Сколько раз он дома сыграл эту мелодию, не известно, со счета сбился, но только он закончил последний куплет, как за спиной крикнули:
— Танго давай! Белый танец!
Славка сыграл первые такты, а тот же голос запел негромко:
Вдали погас последний луч заката
Девушки по-свойски прижимались к парням, отодвигались подальше от света, от калитки — в деревенскую густую темноту. Что они там делали, баянист не знал, но на пятачке людей становилось все меньше. Ленька стоял за спиной и помыкивал под нос: «Прости меня, но я не виновата, что я любить и ждать тебя …»
— Ну спасибо, Леха! Век не забуду! — подошел к ним тамада. — Пропили племяшку мою, как надо. Разбежалась молодежь?
— Да.
— Охренели все. С часу гудим. Ленка своего увела к бабке. Вмажем чуток?
— Нет, Петро. К своим пойду.
— Приходи завтра к Похмелон Иванычу.
— Ладно.
Ленька подхватил баян, и они пошли со Славкой вдоль берега на другой конец села.
— Ушла, — буркнул лучший баянист Жилпоселка, а то и всего Домодедово, и вдруг крякнул без обиды. — Черт с ней! Что нам эта Рожайка? Скоро «Ижак» куплю, на Москву-реку ездить будем, в Серебряный Бор. Туда таких рыжих вообще не пускают. Чтобы масть московскую не портили, понял?
Спали они на сеновале, а там к утру такой холод разгулялся, что встали они рано-рано. Выпили парного молока с черным хлебом, и Ленька буркнул: