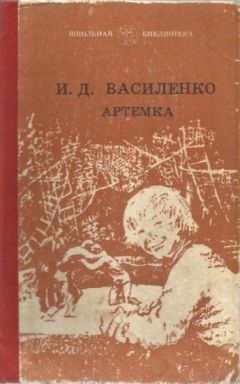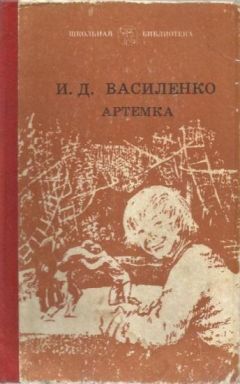Бийке Кулунчакова - Улица моего детства
Научившись ездить верхом, я стала меньше бояться темноты и собак. Не знаю, куда вся трусость моя подевалась. Теперь я могла спокойно пройти даже мимо кладбища, когда приходилось искать теленка.
Научилась я и корову доить. Как-то маме нездоровилось, и она попросила меня подоить Пеструшку. Я много раз видела, как она это делает, ничего вроде бы хитрого. Но едва я приблизилась к корове и заметила, как она покосилась на меня фиолетовым глазом, как вся решимость моя враз куда-то улетучилась. Поставила я ведро под вымя, а сама стараюсь держаться подальше. Вдруг, думаю, корове что-нибудь не понравится — лягнет еще и угодит копытом в лицо. Наклонилась я неуклюже вперед и тяну за соски. Пальцы с непривычки онемели, а струйки молока — то в ведро, то мимо. Пеструшка, конечно, сразу почувствовала: доят ее не те руки, чужие, снова покосилась и, не знаю почему — то ли рассердилась, что много молока на землю пролилось, то ли сделала я что-то не так, — ка-ак саданет ногой, ведро отлетело прочь, а меня всю молоком обдало. С перепугу я так и шмякнулась в лужу молока.
Попыталась еще раз подступиться к кормилице нашей, да куда там, она и близко к себе не подпустила.
Прибежала я домой, чтобы пожаловаться маме. А тут малыши давай потешаться надо мной, смеются, дразнят. Хотела Бегали надрать уши, но он вырвался, убежал. И Инжибийке с ними заодно. Ей бы только посмеяться. Сама-то хоть бы что-нибудь умела делать по хозяйству, так ведь палец о палец не ударит, а над другими посмеяться любит. Мне и вовсе обидно стало, и я расплакалась.
Пришлось маме звать соседку. Пеструшку подоила соседка, жена чабана.
Через несколько дней, хотя мама была уже здорова, я попросила:
— Можно, я подою?
— Только накинь на голову мой платок, — посоветовала мама.
Пеструшка несколько раз оборачивалась и смотрела на меня с недоумением. Наверное, думала: «Платок вроде тот, а руки другие…» Но в этот раз вела себя смирно. Во мне храбрости прибавилось, и я справилась с дойкой.
Однажды мне приснился сон: будто учусь я в своей прежней школе. На перемене Байрамбийке предложила поиграть в прятки. Все разбежались, попрятались, а я ищу. Ищу и никого не могу найти. И так плохо мне одной, так страшно…
Проснулась, а слезы так и льются в три ручья. Хочется в свою школу, в родной аул.
Инжибийке не встает, жалуется, что у нее болит живот. Значит, в школу мне сегодня идти одной. А так не хочется. Не люблю я эту школу. Мало в ней детей. Даже поиграть не с кем.
Некоторое время я плелась, опустив голову и глядя под ноги. Потом обернулась и, убедившись, что никто вслед мне не смотрит, свернула к кладбищу. Пересечь его по еле приметной тропинке я не решилась, а только побродила вокруг, издалека поглядывая на заросшие травой могилы. На некоторых лежали массивные серые камни с какими-то надписями, похожими на узоры. Тут царили тишина и покой.
Вскоре мне захотелось есть. Я отыскала уютную ложбинку, где трава была повыше и погуще, прилегла, подложив под голову сумку, и, глядя в чистое голубое небо, съела свой кусок хлеба с маслом. Солнце поднималось все выше, становилось теплее, в траве начали постукивать своими серебряными молоточками кузнечики. Потом они так расстарались, что монотонным звоном убаюкали меня. Я и не заметила, как сладко уснула. А в груди все росло какое-то тревожное чувство, от которого я и проснулась. Не сразу вспомнила, что не пошла сегодня в школу. Села, огляделась. По солнцу определила, что перевалило далеко за полдень. Отец, наверное, ездил встречать меня и узнал, что я не была на уроках. Теперь меня будут ругать. А вдруг отец так рассердится, что схватится за ремень? Что же делать? Не возвращаться, что ли, домой?.. Но ведь все равно придется отвечать за свой поступок. Лучше уж сразу…
Я встала и решительно направилась к дороге, ведущей к нашей кошаре. Вдруг вижу: навстречу — двое всадников. Одна лошадь серая в яблоках, другая белая. «Отец и еще кто-то, — догадалась я. — Наверное, меня ищут». И почему-то испугалась. Юркнула, пригнувшись, в заросли чертополоха и замерла. Всадники проехали мимо. От голода неприятно засосало подложечной. Я пошарила в сумке, хотя и знала, что не осталось ни крошки, и вдруг обнаружила кусочек сахара. Давно я ничему так не радовалась. Сунула сахар в рот и долго держала его там, смакуя. Положила себе на колени книжку сказок с красивыми цветными картинками и стала читать.
Когда солнце начало клониться к горизонту, я поняла, что никуда мне не деться, придется вернуться домой. Правда, надеялась, что к этому времени гнев родителей немного уляжется.
Но дома, оказывается, все было наоборот: чем больше темнело, тем сильнее росла тревога. И в конце концов поднялся настоящий переполох.
Когда отец, вернувшись из аула, сказал, что меня не было в школе, мама сначала не поверила, а потом схватилась за голову: «С ней что-то случилось!..» А тут и Инжибийке подлила масла в огонь: «Один раз пошла без меня эта Айбийке и уже заблудилась!..» Отец снова отправился в аул, настегивая лошадь. Расспрашивал у ребятишек, искал у знакомых. Так ничего и не выяснив, вернулся мрачный и растерянный. Мама стала плакать, ее причитания и вовсе вывели отца из себя, он выскочил из дому и продолжал поиски вокруг кошары…
В этот момент я и появилась на пороге. Мама осеклась и несколько мгновений молча смотрела на меня огромными, полными слез глазами, потом засыпала вопросами. Выяснив, что во всем виновата я сама, принялась мне выговаривать. А отец тем временем неторопливо снял с брюк ремень. Я сжалась вся, опустила голову, но прощения не просила, знала, что все равно не простит. Трижды просвистел в воздухе ремень. Кажется, я кричала, но крика своего не слышала, да и мало что соображала в ту минуту. Из рук отца меня вырвала мать.
А на следующее утро я заболела. И теперь уже взаправду не смогла пойти в школу. Меня то знобило, будто я вся льдом обложенная лежу, то бросало в жар. Лицо пылало, страшно болела голова, так что трудно было открыть глаза.
— Что с тобой? Ты обиделась на нас? — спрашивала мама и плакала.
Голос ее доносился как сквозь вату.
— Отпустите меня в наш аул, — просила я, еле двигая потрескавшимися губами. — Мне здесь не нравится…
— Потерпи, милая, до лета, а потом все вместе переедем. Не только ты, все мы скучаем по родному аулу, — всхлипывала мама, нервными движениями поглаживая мои плечи.
В прихожей скрипнула дверь, я вздрогнула. В комнате появился отец, а вслед за ним и какая-то женщина. В белом халате, в руках большая коричневая сумка. Оказывается, отец привез из райцентра врача. Она прослушала меня, прикладывая короткую деревянную трубку сначала к груди, потом к спине, простукала каждое ребрышко, помяла живот и сказала, что у меня сильная простуда. Дала выпить какие-то лекарства, сделала укол, но легче мне не стало. До меня, будто издалека, доносились чьи-то голоса. Я старалась разглядеть, кто тут собрался, и никак не могла. И вдруг увидела маму. Сидит за уставленным яствами столом рядом с соседкой, что-то говорит ей и смеется. Веселая-веселая. Давно она не была такой веселой. А… ну да, это же свадьба у наших соседей! На маме ее любимое крепдешиновое платье в цветочек, а на голове белый шелковый тастар. Она совсем молодая в этом наряде и очень красивая, ни единого седого волоса еще.
Когда стали танцевать лезгинку, кто-то пригласил и мою маму. Она танцует и улыбается, а концы легкого тастара то развеваются, как крылья, то обвиваются вокруг нее…
— Тебе полегче? — слышу голос отца и с трудом открываю глаза.
Как сквозь туман проступают медленно передвигающиеся по комнате силуэты. Кто-то говорит:
— Укройте ее теплым одеялом, дайте горячего чаю, пусть пропотеет…
— Сейчас я заварю чай, — слышу дрожащий голос перепуганной Инжибийке.
Почувствовав на лбу чью-то шершавую ладонь, вглядываюсь в склонившегося надо мной человека и узнаю отца. Лицо заросшее, давно не бритое, глаза от усталости ввалились.
— Что с. тобой, Айбийке? Где болит? Ты уж прости меня, девочка…
Я хорошо видела его, хорошо слышала, но ничего не понимала. Не понимала, почему он просит у меня прощения…
Мама села рядом со мной на край постели и напоила меня горячим чаем. Мне очень хотелось спать, а заснуть не могла. Стоило закрыть глаза, наваливался на меня какой-то страх, и казалось, кто-то начинает меня душить. Я кричала. Но голоса своего не слышала. Чувствовала, что вся мокрая, вокруг меня люди. Видела, мама вытирает слезы. Женщина в белом халате наклонилась ко мне и спросила:
— Ты слышишь нас? Хорошо слышишь?
— Да слышу, — прошептала я.
— Где болит? Чего ты боишься?
— Меня душат… мне страшно!..
Потом я почувствовала, что меня во что-то кутают. Несут… Я вырывалась… Бежала… Пряталась… Кто-то сильно заламывал мне руки, ноги, давил на грудь…