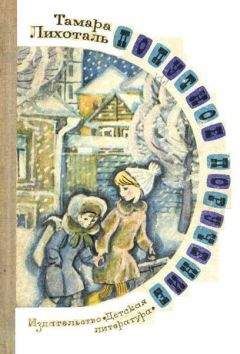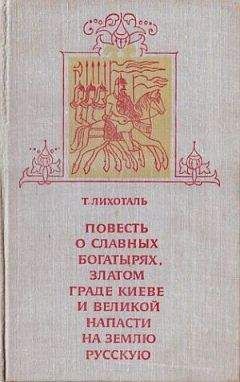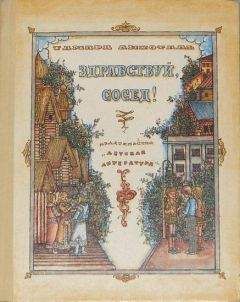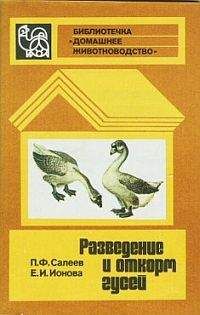Тамара Лихоталь - Не сказка про белых гусей
— Не надо, мать, — некогда. Приду — тогда поем. А сейчас надо быстро, наверное, что-нибудь срочное и решили провести собрание до начала утренней смены.
— Уж не война ли? — тревожно сказала мама. — Какие-такие враги?
— Да что ты, — успокоил ее отец. — Сейчас еще не полезут. Это так что-нибудь. Ну ладно, не тревожься. Я, наверное, скоро. Ведь я сегодня в ночь иду. Так что после собрания — домой.
Но после собрания отец домой так и не пришел — остался на заводе. Когда я прибежала из школы, мама сказала: велел передать — работает.
* * *Я сижу у нашей соседки Макарьихи. Макарьиха, будто я у нее званая гостья, поит меня чаем. Засыпала из коробочки, на которой нарисованы веселые китайцы с косами и зонтиками, свежей заварки, достала из недавно купленного пузатого буфета леденцы в жестянке.
— Ой, что вы. Спасибо. Разве я маленькая, — отказываюсь я. Но Макарьиха:
— Пей, пей. — Худые темные руки проворно ставят на стол посуду. Голос у нее крикливый. Так и кажется, что она сейчас заругается. — Ах такие-сякие, пропасти на вас нету.
Но Макарьиха не ругается, а только покрикивает:
— Пей, пей.
И я пью из большой чашки с красненькими яблочками на боку чай и сосу пахучие леденцы.
Макарьиха наливает себе тоже. Только не в чашку, а в высокую кружку. Кружка эмалированная, и чай в ней — горячий, но Макарьиха пьет.
— Во, гляди, как грызут. — Она с хрустом раскусывает леденец, сверкая зубами. — Видала? — И снова хрустит.
Зубы у нее белые, ровные, как один, — новенькие.
— И верхние, и нижние, — хвастает она. — Докторша молоденька такая. Вам, говорит, как иждивенке полагается. И вставила. А полуклиника — стены белые. На окошках — занавески. Ступаешь как в церкви. И вставила, — повторяет она, — верхние и нижние.
Про Макарьихины зубы, которые ей вставили в недавно отстроенной заводской поликлинике, я уже слышала.
— Как молодая стала, — одобрительно говорят во дворе соседки. Макарьиха вроде и вправду вовсе не старая, как нам всегда казалось. Лицо у нее покруглей стало, что ли? А когда она снимет свой платок, видно, что у нее темные, густые волосы змеей вокруг головы.
— Да она и не старуха вовсе, — сказала мама. — Просто жизнь у нее такая была.
Наверное, и вправду у Макарьихи была плохая жизнь.
Своего умершего мужа она иначе и не зовет, как старый идол.
— Да разве тот старый идол понимал? Ему бы только водку жрать. Так и помер без покаяния, прости господи…
А когда мы с ней только начали заниматься, она все никак не могла вывести в тетрадке буквы — пальцы дрожали, и карандаш прыгал по строчкам. Наконец, мы с ней вместе написали большую букву А. И, любуясь ею, Макарьиха сказала:
— Вот бы мой идол поглядел, — и вздохнула.
Теперь мы уже прошли почти все буквы. Я прихожу к Макарьевне каждый раз, как только у меня есть время, и мы занимаемся. А когда мы занимаемся, она сидит тихая-тихая и испуганно поглядывает на меня. Так или не так? И если что не получается, лицо у нее — виноватое-виноватое. Но как только занятия кончаются — надо поскорей уходить. Это я уже знаю. Не успеет Макарьевна положить на полочку в буфете свои тетрадки, как начнет.
— А кто это, будь ему пусто, на стену залез? Я иду из магазину, глядь, а он по самой стене топ-топ, как копытами скачет?
Залез на стену кирпичную, ограду «Арсенала», Сережка Крайнов. Залез и прошелся по ее островерхим зубцам, как над пропастью. Я, конечно, помалкиваю. Но Макарьиха и сама знает — кто.
— Такой-сякой, непутевый, — ругается. — Не сносить ему головы. Вот и мой Ванька такой же был. Меньшой. Тот аж на трубу залез. Пошла я идола своего искать. Акурат получка была. Может, думаю, не все пропил, хоть из карману выну, пока спит. А тут товарка:
— Иди, — кличет, — твой Ванька на трубе — вона.
И правда, Ванька. Махонький такой снизу, как птица. Это он, паршивец, по пожарной лестнице. Думала, живой не будет…
Лицо у Макарьевны сердитое. Попадись ей только этот ее меньшой Ванька. И мне хочется спросить ее, что же ему было, когда он, наконец, слез с трубы. Но я не решаюсь. Макарьиха говорит сама, но уже не сердито, спокойно так:
— Так и сгинул. Это уж когда гражданская началась. Я туда-сюда — нету. А потом заявляется. На шапке — звезда, в руках — винтовка. «Я, — говорит, — мама, за землю, за волю, за лучшую долю. Прощай, — говорит, — жди с победой». Шестнадцать годков ему было. Так и ушел. Семен — старший, вернулся. А Ванюшка — нет.
Но сегодня Макарьиха настроена более мирно.
— Никак, Григорий уже пришел? — спрашивает.
— Пришел, — говорю.
— Что так рано? Или что случилось? Не заболел часом?
— Нет. Здоровый. Колька у него.
— Колька? — говорит она. — У него? — И посматривает на меня ехидно. Надо же! И она тоже. Я же не виновата, что он ходит, Колька. Отец сегодня вернулся с завода рано.
— Шось у лиси сдохло, — удивилась мама, захлопотала у стола. Отец вымылся под умывальником, долго тер лицо и руки полотенечком с красными петушиными хвостами.
— Да что за праздник такой? — допытывалась мама. — Еще светло, а ты — в доме.
— Чи не довольна? — отшучивался батька. На крыльце послышались медленные шаги.
— Это — Колька, — сказала я, — к тебе. — Петушиные хвосты на секунду застыли в воздухе. Из-под полотенца выглянул батькин глаз.
— Хм, — глаз подмигнул с подковыркой. — Хорошо… если ко мне. — Петушиные хвосты заметались, приплясывая. — Ну, ладно. Ко мне так ко мне. Иди впусти его. Хлопец он ничего.
Да разве ж я виновата что он ходит? Вот нарочно сегодня домой не пойду. Вернусь поздно-поздно.
— Давай заниматься, — говорю я Макарьихе.
Она:
— А может, хватит? И тебе небось погулять охота.
— Никаких гуляний, — говорю я строго. — Никаких гуляний.
Вечером, когда, заучив до одурения Макарьевну, я прихожу домой, у нас горит свет. Отец все еще занимается, прикрыв газетой лампу.
Мама легла. А мне уже совсем расхотелось спать. Мы сидим с отцом и разговариваем.
— Ты чего такой хмурый в последнее время? С планом что-нибудь не так?
— Нет, с планом порядок, — отвечает отец мне серьезно, как взрослой. — С планом порядок, — уже веселей повторяет он. — И знаешь, кто в передовых у нас идет?
— Кто?
— А вот Сазонов Степан.
— Двоюродный плетень? — смеюсь я.
— Ага, — кивает отец. — Ворчал, ворчал, а потом забрало и его. Такую штуку сообразил. Золотой он работник. Кулак в нем еще сидит — это верно. А работник — таких немного сыщешь.
— А вот Сережка Крайнов… — говорю я, — перескакивая к своим мыслям, к тому разговору, у которого нет ни начала, ни конца.
Мы говорим и спорим об этом, встречаясь, и думаем — каждый про себя. Все так трудно, запутано и тревожно. Фашисты. Гитлер. Неужели война?
Сережка говорит:
— Еще во время той войны — братались, отказывались стрелять друг в друга. А ведь тогда коммунистов было еще совсем мало. А теперь… «Это как дважды два», — говорит Сережка. — Я выйду и крикну: «Геноссе! Фрейндшафт!» — мы ведь учим немецкий.
Немецкий-то мы учим, но это совсем не дважды два. Значит, там, в Германии, не понимают? Иначе разве сумел бы Гитлер? Ведь если бы все не захотели — он бы не мог. Убивают и пытают людей. Подумать только — пытают. И все молчат. Почему молчат? А что, если бы и вправду выйти и крикнуть им:
— Товарищи! Что же вы! — И снова, перескакивая мыслями, я говорю: — Слава собирается в армию. Как ты думаешь, будет война?
Отец отвечает не сразу, как бы нехотя:
— Может, и побоятся сунуться к нам. Вот еще окрепнем, встанем на ноги.
— А что же там рабочие? — возмущаюсь я. — Как же они допускают такое? Вдруг этот Гитлер не только у себя, вдруг он и другие страны захватит и всех забьет?
— Всех не забьет, — говорит отец, раскуривая папиросу, — никогда никакая темная сила, даже самая свирепая и жестокая, не может надолго взять верх, как бы она ни старалась. Я тебе сейчас объясню, почему это так. Да и как может быть иначе…
Но отцу так и не пришлось досказать мне свою мысль. Мама, которой свет мешал заснуть, погнала нас:
— Хватит вам, полуношники, а то завтра не добудишься вас. Ложитесь!
Подмигнув друг дружке, мы с отцом погасили свет и принялись укладываться. Утром, когда я убежала в школу, отец еще спал.
Домой мы возвращались вместе с Валей. Пока мы сидели на уроках, выпал снег. Облепленные снежной порослью деревья. Лохматые, провисшие провода. Выбеленные снегом кирпичные стены «Арсенала» как стены сказочного замка. Весь этот мглистый день был мохнат, как белый медведь. Но вот, растолкав косматые гущи облаков, проглядывало солнце. И тогда все вокруг сверкало и искрилось крохотными радужными огоньками. Ослепительно сиял наш пустырь. Рассеивая голубые дымки, по нему черными жуками бежали паровозики со снежными попонами на спинах. Я шагала рядом с Валей, расстегнув воротник пальто. И внутри меня что-то так же сверкало и искрилось, как радужные огоньки на праздничной белизне пустыря. И люди, попадавшиеся нам навстречу, казалось, тоже несли внутри себя радость.