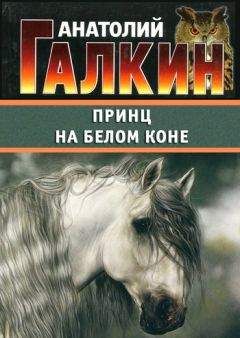Ким Васин - Сабля атамана
— Ох, Васлий, — вздохнула мать, — лезешь не в свои дела. И так уж в деревне косятся на тебя…
— Подумаешь! — весело ответил отец. — Пусть себе косятся.
— Чужая душа — не сундук, в нее не заглянешь, а только сразу видать: злы на тебя, — с упреком продолжала мать. — Чует мое сердце, доведет до беды твоя дружба с комиссаром. Уж лучше бы жил, как прежде: потихоньку, пастухом, а то полез в комбед какой-то…
— Теперь власть наша, бедняцкая, — слышен бодрый голос отца. — Она в обиду не даст, а кто на нас руку подымет — враз скрутит.
— Так-то оно так, — согласилась мать, — да от злого человека не знаешь, чего ждать… Ты уж, ради бога, будь осторожнее. Слышал ведь, говорят, какой-то незентир с ружьем в Куптюрском лесу прячется…
Отец только махнул рукой:
— Э, да что там!.. Если всякому слуху верить да всего бояться, всю жизнь на печке просидишь. Дорога в село не Казанский тракт, никто меня не тронет.
Поняв, что отец собирается в село, Келай протер кулаками сонные глаза и высунул с полатей встрепанную голову:
— Отец, я тоже с тобой пойду! Ты ж обещал взять…
— Ждут там тебя, — недовольно проговорила мать.
Отец не собирался на этот раз брать Келая с собой в волостное село, но, поймав его умоляющий взгляд, пожалел мальчика.
— Ну ладно, уж если так хочешь, пойдем, — согласился отец.
Келай, словно белка, спрыгнул с полатей и схватил с гвоздя свой кафтанишко.
— Куда ж, не поевши-то? — окликнула мать. Она быстро отрезала ломоть хлеба и протянула Келаю.
— Не надо, — отмахнулся Келай.
— Ишь как в село захотелось, даже еды не надо, — засмеялась мать. — Бери, до вечера проголодаешься.
— Кусок хлеба в дороге не помешает, — улыбнулся отец. — Клади за пазуху, и пошли.
Когда отец и Келай вышли со двора, их охватило утренней прохладой. Солнце уже поднялось над горизонтом, но земля еще не нагрелась. Мокрая от росы трава холодила босые ноги Келая.
— Вот чудак, — сказал отец. — Обул бы лапти. Ноги застудишь…
— Мне тепло, — ответил Келай.
Приостановившийся было отец пошагал дальше. «А и вправду не застудит, — подумал он. — В мальчишках-то я сам так же бегал: мужицкое дитя привычно и к жаре и к стуже».
А Келай от радости, что отец взял его с собой, не замечает ни утренней прохлады, ни холодной росы.
Отец шагает ходко — ровно и быстро, как молодой, хотя ему уже за пятьдесят. Всю жизнь Васлий проходил в пастухах, всю жизнь за стадом, всю жизнь на ногах; и теперь еще его привычные к ходьбе ноги не знают усталости.
Но, как ни быстро идет отец, Келай не отстает от него: то прибавит шагу, то побежит вприпрыжку, мелькая босыми пятками. От быстрой ходьбы у Келая окончательно прошел сон.
И все вокруг как будто тоже радовалось с ним вместе. Голубело чистое небо, яркое солнце щедро разбрасывало повсюду свои лучи: они слепили глаза, прыгали по траве и, рассыпавшись на тысячи маленьких разноцветных огоньков, вспыхивали на каждой травинке.
Перейдя по жердочкам-мосточку через сверкавшую на солнце речушку Изенгер, Келай и отец по тропинке поднялись в гору.
Сверху далеко видно во все стороны. Но Келай глядит только в одну — он глядит вперед, где далеко-далеко над синей полоской леса, сливаясь с голубым небом, виднеется белая точка — церковь: там село.
За горой тропинка влилась в большую наезженную дорогу. По обеим сторонам тянулись поля. Хлеб уже сжали и вывезли, и только изредка кое-где виднелись последние редкие снопы, сложенные в суслоны-пятерики.
И вдруг за поворотом у самой дороги показалась несжатая полоска. Потемневшая рожь клонила к земле грустные, полуосыпавшиеся колосья и, казалось, печально молила: «Что же ты забыл меня, хозяин? Зачем оставил на добычу прожорливым, ненасытным мышам?»
Почуяв сердцем неладное, Келай вопросительно посмотрел на отца.
— Эх, Микак, Микак, — тяжело вздохнул отец, — вот ведь как повернулась твоя судьба…
«Микак… Так, значит, это его поле», — понял Келай и тоже вздохнул.
Микак, их сосед, в прошлом году ушел воевать да так и пропал без вести. В деревне у него осталась жена и сынишка, Келаев одногодок. Но неделю назад они оба умерли от тифа. Стало в деревне одной семьей меньше, прибавился еще один пустой дом…
А рожь стоит, шумит на ветру, и не понять ей, что ее хозяев уже нет на свете…
Васлий еще раз вздохнул. Келай заглянул отцу в лицо и заметил сбежавшую по морщинистой сухой щеке тяжелую каплю.
— Отец, ты почему плачешь?
Отец рукавом поспешно смахнул слезинку:
— Не плачу я, сынок… Ей-богу, не плачу…
Но Келая не проведешь.
Васлий надвинул шапку на глаза и, как-то сгорбившись и повесив голову, пошагал дальше.
Оттого что так опечалился отец, пропала радость у Келая, голубое небо и яркое солнце как будто потускнели, и дорога как будто нарочно свернула в темный лес.
Старые, обросшие седым мхом ели тесно обступили сразу сузившуюся дорогу, бросая на нее сплошную черную тень. Из-за их густых, непроглядных ветвей все время слышится глухой, тихий шум, и кажется, что это не ветер колышет вершины, а кто-то тяжко вздыхает.
«Незентир, — подумал Келай, вспомнив слова матери. — Он…».
И в его воображении встал этот страшный, злой незентир, с лохматой черной бородищей, с огромным ружьем, с блестящей саблей на боку. Вот он, сверкая зубами и свирепо поглядывая вокруг, крадется по кустам…
Келай испуганно жмется к отцу, и за каждой качнувшейся веткой ему мерещится страшная, лохматая голова…
Но что это? Сквозь шум деревьев несется какой-то вой. Он приближается и становится сильнее…
— Отец, слышишь? — прерывающимся тихим голосом спросил Келай. — Что это?
— Гармошка, — спокойно ответил отец. — Какой-то дуралей с утра на гармони наяривает, будто другого дела у него нет.
Потом, прислушавшись, добавил:
— А может, в армию провожают…
Теперь уже гармонь приблизилась настолько, что можно было разобрать однообразные, бесконечно повторяющиеся колена тоскливой, рвущей душу мелодии старинной рекрутской песни. Плакала, рыдала гармонь, прощаясь с родным краем, с пустыми сжатыми полями, с этим вот мрачным лесом…
Гармонист, оказывается, был недалеко. Отец с Келаем вскоре нагнали медленно бредущую за тремя подводами, нагруженными холщовыми котомками и самодельными деревянными сундучками, нестройную кучку парней и мужиков.
Гармонист, молодой парень в черной войлочной марийской шапке — теркупше, сидел на передней телеге и, отчаянно растягивая гармонь, визгливо горланил:
Ой, течет, течет водица,
Кто подставит желобок?
Уезжать приходит время,
Кто мне сани запряжет?
Странно было слышать песню про сани среди зеленого леса, когда вокруг ни единой снежинки…
— Васлий, прощай! В солдаты уходим!.. — крикнул гармонист, увидев отца Келая.
Отец сдернул с головы свою дырявую шапку и помахал гармонисту:
— Счастливого пути, Сапан! Много вас из деревни взяли?
— Мно-о-го! — ответил шагавший рядом с телегой бородатый мужик. — Почитай, взрослых мужиков ни одного в деревне не осталось — все воюют. Теперь до нас черед дошел… Не вернемся, пока не одолеем проклятого толстопузого буржуя!
А гармонист, надвинув шапку на глаза, ни на кого не глядя и никого не слушая, снова затянул свою надрывную песню.
Бородатый мужик долго неодобрительно косился на него и наконец не выдержал — крикнул:
— Перестань! Не стони ты, ради бога, горлопан! Стыдно с такой песней идти в красные солдаты. А ну, комсомол, запевай свою!
Гармошка визгнула и смолкла, и тотчас же шагавший впереди вихрастый длинный парень звонко завел:
Мы кузнецы, и дух наш молод,
Куем мы к счастию ключи!
Песню подхватили:
Вздымайся выше, тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи!
Песня рвется ввысь, ей тесно на лесной дороге, и, разлетаясь далеко вокруг, она уже звучит во всех концах леса, будоражит, подымает, зовет к победе.
Мы светлый путь куем народу,
Мы счастье родине куем…
В горне желанную свободу
Горячим закалим огнем!
Келай заслушался, позабыл все свои страхи и, блестя глазами, дернул отца за рукав:
— Отец, какая песня хорошая! Вот вырасту большой, и я пойду в солдаты с этой песней.
— Пойдешь, сынок, — ласково ответил отец. — Ты будешь храбрым красным солдатом.
Старый пастух шагает в ногу с уходящими в армию комсомольцами. Будь он помоложе, и сам ушел бы воевать с ними вместе.
А песня стучит в самом сердце:
Ведь после каждого удара
Редеет тьма, слабеет гнет,
И по полям родным и ярам
Народ измученный встает.
Лес поредел, и дорога вышла на простор. Впереди показались красные, серые, желтые, железные, тесовые и соломенные крыши.