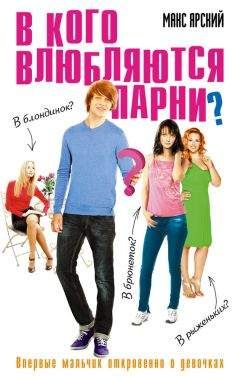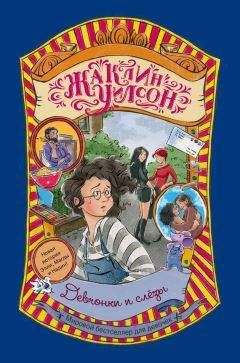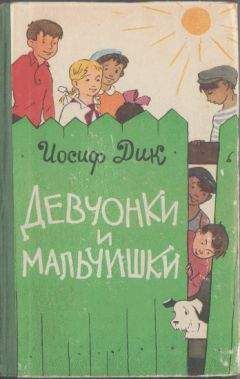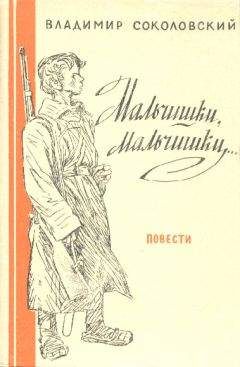Алена Сантарова - Катя, Катенька, Катрин
— Бабушка, а ты за что хотела меня поругать? — отважилась спросить Катя.
— За разбитое окно. Завтра пойдешь к стекольщику. Сколько раз я говорила: закрывайте окна, когда уходите из дому.
Такой поворот дела был совершенно неожиданным. Катя хохотала долго. Потом вдруг умолкла. И на одном дыхании рассказала бабушке, какие мысли пришли ей в голову: ведь она подумала, что ее собираются ругать из-за дневника.
Теперь уже бабушка не могла понять, в чем дело. Она совершенно забыла о маленькой книжечке с золотым обрезом и надписью «Поэзия», с видом вересковых зарослей, над которыми кружатся бабочки.
— Действительно, — вспомнила она, — был такой. Мне подарили его к Новому году.
— Ко дню рождения, бабушка, — поправила ее Катя.
— Катенька, где, ты говоришь, он лежит? Мне бы хотелось его прочитать, вспомнить старое. Как давно это было!
— Я… я сейчас его принесу, бабушка. Он в мансарде, в шкафу, за старыми книгами.
— Он лежит там уже несколько десятилетий, — сказала бабушка с печальной улыбкой.
Минуло несколько дней. Обыкновенных летних дней, прошедших в тишине старого дома, освещенных солнцем и отблесками бегущей реки.
Катю постепенно охватывало грустное настроение. Собственно, ей было очень, очень одиноко. Ни Вера, ни мальчики ее не сторонились, но все же они упрямо настаивали на своем: Катя должна одуматься. Это было самое трудное — одуматься! То есть она должна была отказаться от всех своих представлений, от мечты об обществе, от своих планов, от своей позиции взрослой девушки.
Катя ходила одна, кислая, печальная, но… любопытство не покидало ее: хотелось поскорее узнать, даст ли ей бабушка свой дневник, вспомнит ли она свое обещание — рассказать Кате некоторые давние истории. И поможет этому старый альбом с фотографиями.
Однажды, вытирая пыль, Катя задела огромную книгу в коричневом кожаном переплете, из которой выпала фотография.
— Прости, бабушка, что я уронила, — извинилась Катя, протягивая бабушке пожелтевшую фотографию. На нее смотрела пухленькая девушка с жеманной улыбкой, маленькими насмешливыми глазками, с высокой пышной прической, на которой сидела плоская шляпка.
— Ну что ж, давай посмотрим, — сказала бабушка и воскликнула: — Да ведь это Отилька… Отилия Шторканова. Моя бывшая подруга!
Да, Катя знала. Воспользовавшись случаем, она робко напомнила бабушке, что читала о ней в старых записках и что с удовольствием…
Бабушка перелистывала страницы альбома. С фотографий на Катю смотрели топорные лица. У мужчин были усы, бороды, в глазах — спокойствие; дети испуганно глядели в объектив фотоаппарата; девушки с деланной улыбкой держали на коленях книги или букетики цветов. Это был удивительный старый мир. Мир без самолетов, автомашин и электричества, без радио и телефонов, мир, который закрывал перед девушками двери школ и предлагал им в пятнадцать лет заботиться о приданом.
Бабушка вспоминала, и вот ее рассказ коснулся темы, весьма интересовавшей Катю.
В главе седьмой события возвращаются на целых полстолетия назад
В тот год лето было ранним; в саду за старой школой еще не успели отцвести яблони, а уже появились первые розы.
— Ну, вот и лето пришло, — сказала своей дочке Кате пани Томсова, вытаскивая из сундуков белые полотняные чехлы, чтобы прикрыть ими мягкую мебель в гостиной…
Катенька вздохнула. Она знала, что настал конец их вечерним сидениям за круглым столом, что керосиновая лампа с разноцветным абажуром будет до осени убрана в буфет и что гостиную будут открывать только тогда, когда приедут гости или если случится какое-либо другое чрезвычайное событие.
Катенька любила гостиную. Это была полутемная и торжественная комната. Со стен в широких резных рамах смотрели картины, которыми Катя могла бесконечно любоваться. Вот Ян Гус перед церковным судом. Вот князь Олдржих и юная Вожена у родника. Вот Прокоп Голы под Нюрнбергом. Эту картину она любила больше других. Ей нравился статный задумчивый воин в простой одежде, принимающий посланцев осажденного города.
Любила Катенька смотреть и на девушку со светлыми волосами в легком белом одеянии — она стояла, подняв руки. Кате хотелось походить на нее, быть такой же светловолосой и нежной. Раньше Катя не задумывалась, как она выглядит, а теперь, когда она смотрелась в зеркало, что было не часто (мама не разрешала долго смотреть на себя в зеркало, говорила: «Не смотрись, а то будешь как обезьяна»), ей становилось не по себе: худое, высокое, длинноногое создание, на лице только глаза да большой рот… Разве это красиво? А платье? Недавно она прочитала в журнале «Пражские моды», что у королевы красоты был наряд, сшитый по венской моде, а именно: юбка с туникой и под ней — волан…
Кате в этом году сшили новое платье. Мама с трудом решилась на это: материал стоит дорого, да и пани Чижкова не знает, сколько за работу взять. Домашняя портниха сидела целых два дня, и наконец платье было готово. Но оно оказалось очень широким и очень длинным. «Ничего, — сказала тогда пани Чижкова, — материал немного сядет, а девушка подрастет!» Как Катенька плакала, когда пришлось надеть это платье! И она могла бы быть королевой красоты, но только не в этом наряде!
Конечно, ей нечему было радоваться, даже лету, которое, как сказала мама, уже пришло.
У Томсовых существовал такой порядок. Как только исчезал на дворе снег и кругом была еще грязь, но становилось ясно, что морозы уже не вернутся, мама говорила: «Ну, вот и весна пришла!» Тогда выставлялись оконные рамы, а зимние пальто и другие теплые вещи складывались в сундук и пересыпались нафталином. Мама начинала тереть и чистить все в доме. Потом ждала, когда расцветет первая роза. На лето гостиную запирали. В обязанность Катеньки входило до блеска вычистить лампу и убрать ее на отдых. Мебель накрывалась белыми полотняными покрывалами. Семья переезжала на летние квартиры: на застекленную веранду и в сад.
Конечно, спали в своих обычных спальнях, готовили и ели на кухне, но, в общем, дом был закрыт. В нем все чистили, стирали, мыли, приколачивали. «Если погода хорошая, надо быть все время на воздухе, а в дождь — на веранде. За лето можно многому научиться: читай, вышивай крестом!» С мамой невозможно было спорить. И на осень и на зиму у нее существовали свои постоянные планы. Казалось, что вся жизнь была заранее расписана. Даже каждый день в году имел свое предназначение, и нужно было делать именно то, а не это. «Так надо. Так всегда было. Во всем должен быть порядок». И мама твердо его придерживалась. Катенька знала, что этот порядок ничто и никто не изменит.
Она вымыла и до блеска начистила лампу, пока не осталось ни пятнышка. Вздохнув, отважилась спросить:
— Мамочка, а где теперь будет заниматься папа с Благославом?
Она интересовалась, потому что это было нечто новое. Отец начинал готовить Благоуша к экзаменам в гимназию.
— В садовой беседке. Ежедневно в половине четвертого будешь носить им кофе.
Не было такого вопроса, который мог бы удивить маму. Все должно было идти гладко, как по маслу.
Катя снова вздохнула. Все было хуже, чем она предполагала.
— У тебя что-нибудь болит? — поинтересовалась мама. — Нет? Не знаешь, куда голову склонить? Тогда пойди поиграй на пианино!
Пианино — это тоже было великое мучение. Катя переиграла уже все упражнения и этюды и теперь разучивала вещи из сборника «Дитя отчизны». В нем были собраны патриотические песни, прославляющие красоты родной земли, мужество мужчин и нежность девушек. Этот сборник Кате подарили в день рождения.
— Пойди поиграй, а то ты никак его не одолеешь, Катя, — сказала мама, отпирая гостиную.
Это было одно из исключений: ежедневно Катя имела право, вернее, была обязана играть на пианино, которое стояло в гостиной.
— Сейчас иду! Только возьму сумку, — ответила она.
Сумка. Отвратительная школьная сумка. Самая отвратительная, какую только можно представить. По бокам и сзади — кожаная, а спереди — матерчатая с вышивкой. Вот именно! И сделали ее Катины руки. На вышивке был изображен спокойный и сонный сенбернар, по спине которого прыгали желтые цыплята. Как ни старалась Катя, вместо сенбернара получился какой-то теленок, а вместо цыплят — сияние; и все это затерялось во множестве шерстяных крестиков. Сумка получилась ужасная, но мама не разрешила делать новую, сказав: «Какую смастерила, с такой и ходи!»
Так Катя изо дня в день ходила с ней в училище. Ей казалось, что она сама себя приковала к позорному столбу — свидетелю ее бездарности, что она сама позорит себя перед всем миром: «Посмотрите, Катя Томсова не умеет вышивать! Посмотрите, что она сделала с сенбернаром! А ведь ей уже тринадцатый год!»
Эту ужасающую сумку она бросила под пианино, раскрыла ноты и начала бренчать: «Как пре-кра-сна от-чиз-на моя».