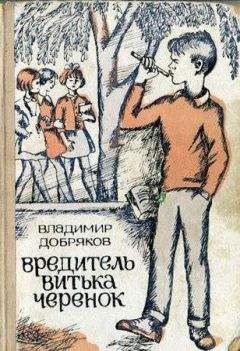Федор Боровский - Рыжий
Но уже ясно было видно, как заработала его отчаянная белобрысая башка, заработала, куда нужно. А нахмуренные брови — одна видимость, он уже забыл мимолетную нашу стычку, да и мне пора забыть.
Мы проверили новые знания в первый же ветреный день. Ветер дул наискось, пожалуй, больше на гору, чем с горы, но Витька настаивал — лезть. Если ветер носит запахи, то сильный ветер должен нести много запахов, собака все равно не разберет, где мы находимся, даже если и почует. Мы ведь каждый день по двору ходим, она не поймет, с какой стороны ограды находимся мы сейчас. Мы с братом не очень даже и спорили. Времени на сомнения и споры уже не осталось, того и гляди, появятся в саду парни с лестницами — и прощай орехи до следующей осени. И орехи прощай, и победа над Зурабом Константиновичем вместе с его собакой. А что башка у Витьки золотая, кто ж станет спорить. Он правильно сообразил, нас собака не почуяла и не услыхала.
Она лаяла время от времени, но явно не на нас. Лай был безадресный, мы не слышали в нем той сосредоточенной злобы, что согнала нас с дерева в прошлый раз. Даже, можно сказать, она как-то растерянно лаяла, словно не могла разобраться, откуда что к ней доносится. Мы скакали с ветки на ветку совершенно свободно, не очень и таясь, не боясь шума, а она все равно не почуяла. Утром Зураб Константинович снова стоял под деревом и качал головой. Опять провожал он нас внимательным взглядом, когда мы шли в школу. Но мы даже головы не повернули в его сторону — дескать, знать ничего не знаем, чисты, как ангелы, нечего сверлить нас укоризненными взглядами, собаку лучше свою спроси.
Не знаю, спрашивал он или нет, но вечером того же дня пришли сборщики, и мы распрощались с Зурабом Константиновичем и с его орехами до следующей осени.
* * *На следующий год мне уже было четырнадцать. Ну не совсем еще четырнадцать, но около того. Месяцев трех не хватало. И я уже твердо решил, что после восьмого класса, когда мне будет без малого пятнадцать, я брошу школу и пойду в ремеслуху. Мы вместе с Витькой решили. Втихаря, втайне от всех, даже от брата. Хватит на материных шеях сидеть. «Настоящие мужчины должны думать о своих матерях» — так сказала бабка Ламара когда-то, и теперь мы поняли, что это значит. Отец не помощник, он и себя-то еле кормит, да еще и попивает временами, а есть еще брат, а у Витьки — сестры. Их еще долго и учить, и кормить, и обувать-одевать, а на мать и теперь уже другой раз смотреть больно. Мы бы и сразу пошли, но в Грузии одиннадцатилетка, выпускной класс восьмой, а не седьмой, как везде, и мы решили после долгих споров, что восьмой класс закончить нужно и получить свидетельство за неполную среднюю школу. Мы не решили еще, правда, куда пойдем и чем станем заниматься: на консервный завод, на Шахтострой, на железную дорогу или на автозавод, который вовсю строился на плоских пустырях за городом. Там посмотрим. Как будет, так и будет. Еще целый год впереди, успеется. Пока же нам ясно стало одно: это лето у нас последнее, и ничего нельзя упускать, и ни от чего нельзя отказываться. Купанье, футбол, сады… Ну, держись, Зураб Константинович!
А впрочем, Зураб Константинович с его орехами — мелочь. Не слишком теперь это трудно, после того как мы научились использовать ветер. Да еще и Рыжий. Он всегда чувствовал себя в саду как дома. Сад для него ничем не отличался от нашего двора. Колючая проволока для него не преграда, а что еще их разделяло? Верно, проволока и нам не преграда, но для нас все-таки это — знак чужой территории, запрета, табу. Ну а ему — какие могут быть табу? Собака? Так собака во дворе сидит, за штакетником, собаку Зураб Константинович в сад не пускает, потому что она ему там бед наделает побольше нашего. Сам же Рыжий ни фруктов не таскал, ни деревьев не портил, он только охотился, может, даже на пользу сада. Во всяком случае, гусениц он ел, я сам видел. Но собаке-то на это было наплевать. Она считала сад своей землей и злилась на всякого, кто туда заходил, кроме, конечно, хозяев. Да, может, и на хозяев тоже. А уж на Рыжего она злилась еще сильней, чем на людей. Рыжий был кот — не то дичь, не то соперник, — недруг, в общем, и то, что он безнаказанно резвился у нее под носом, на ее законной территории, доводило собаку до исступления. Зато Рыжему — хоть бы хны. Усядется на ветку, лапки подберет, усы развесит — ухом даже не ведет, пусть она там разорвется лаявши. Делия выходила успокаивать, Зураб Константинович выходил, подозрительно смотрел в сад и долго не мог понять, в чем дело. В саду никого, а собака лает. Но потом он понял. Понял и попытался Рыжего из сада прогнать. Сошел в сад и запустил в него палкой. Прямо у меня на глазах. Попасть не попал, но потревожил. Рыжий проснулся, свесил с ветки голову и зашипел как змей. Зураб Константинович поднял комок земли и снова кинул. И снова не попал. Но Рыжий разозлился, вскочил на ноги и забегал по ветке взад и вперед и заурчал злобно и протяжно, даже сквозь собачий лай слышно было.
— Эй, эй, — кинулся я к ограде. — Что он, вам мешает, что ли?
Зураб Константинович махнул рукой, спустился ко мне и встал напротив, по ту сторону ограды.
— Слушай, мальчик, — высокомерно сказал он. — А тебе разве не мешает? От этого лая с ума можно сойти.
Что верно, то верно. Рыжий ходил в сад не каждый день, но когда он там появлялся, собака не унималась ни на минуту. Яростный, хрипящий лай мог греметь вперемежку с рыком и час, и два кряду — собака была упорная. Наши взрослые тоже сердились и ворчали. Но они ворчали на собаку и на Зураба Константиновича, и никто не догадывался, что виной всему — Рыжий.
— А что я сделаю? — угрюмо сказал я, изнывая от мысли, что этот человек вполне может пойти и нажаловаться маме, и тогда неприятностей не оберешься.
У мамы-то разговор короткий: кот твой, и делай что хочешь, но чтобы людям не мешали, а то будет вам всем троим по первое число. Тут и брату не отвертеться, мы оба Рыжему хозяева, и оба за него в ответе.
— Забери его, — сказал Зураб Константинович и поморщился. — В голове от них звенит.
Я мог бы ему сказать, что пусть он лучше собаку свою куда-нибудь денет, все равно от нее толку никакого, но не сказал.
— Да-a, забери, — вместо того пробурчал я. — Исцарапает всего, он не любит, когда его руками берут. Да и дерево я вам все поломаю, за ним же гоняться нужно.
Странное выражение промелькнуло на лице Зураба Константиновича, словно бы удивление, но не то удивление, с которым он обычно на нас смотрел: дескать, что это там копошится и как его еще земля носит, а вполне человеческое и вполне понятное, как будто он вдруг впервые меня увидел и изумился, что я нормальный человек, такой же, как все, — с двумя руками, с двумя ногами и головой, что в груди моей бьется человеческое сердце и в жилах моих кровь так же красна и горяча, как и у него самого. Всего лишь на мгновение появилось и пропало, и снова стоит передо мной человек и смотрит, высоко подняв брови, как на пустое место, так что я и не уверен теперь, менялось у него выражение лица или мне померещилось.
— Тогда позови, — сказал Зураб Константинович. — Он тебя слушается.
— А откуда вы знаете? — удивился я.
— Позови, — повторил он, не отвечая на мой вопрос.
— А он не пойдет, — весело объяснил я ему. Я вдруг понял, что жаловаться Зураб Константинович не станет. Не знаю уж, как я это понял, но понял. И взвеселился. — Он сейчас злой, а злой он не слушается.
Зураб Константинович покачал головой, повернулся ко мне спиной и пошел наверх, от меня, мимо Рыжего, домой. И стал успокаивать собаку, а собака не успокаивалась, и ему пришлось увести ее в дом.
Но какая собака ни была упорная и злая, со временем она привыкла, потому что Рыжий оказался еще упорней. Мы даже и не заметили, когда она перестала лаять. Просто как-то по весне я увидел Рыжего в саду, на дереве. Легкий ветерок дует на гору, а собака молчит. Она его должна чуять, а она молчит. Привыкла. И я сразу же сообразил, как это нам на руку. Если Рыжий будет с нами, то она на нас, может быть, и лаять не станет. В конце концов, мы ведь тоже неподалеку крутимся, в своем дворе, может, она и к нам привыкла. Мысль эта мелькнула у меня и пропала, потому что по весне была она нам ни к чему. Даже если и привыкла, все равно надо августа ждать, когда орехи станут съедобными.
Все приходит, и все проходит, пришел и август. Поздней темной зеленью заблестела листва, налились деревья, и все больше тяжелели их ветки под грузом созревающих плодов. Пудель притащил как-то десятка два орехов, и первые желтые пятна едкого, горького орехового сока окрасили наши пальцы. Пора!
— Э, Витя, а чего мы будем ветра ждать? Она на Рыжего-то не лает.
— Ну и что?
— А то! Может, она и на нас лаять не будет, э!
Витька подумал и с сомнением покачал головой:
— А если опять гвалт поднимет, как в прошлый год?
Что ж, Витька прав, риск есть. Я тоже подумал и согласился — ни к чему. Так ли уж трудно подождать несколько дней? Не голодные, не сорок пятый год. Ветер когда-нибудь да будет, дождемся. Но проверить я все же проверю. Уж больно соблазн велик, такой случай упустить — это как же я себя потом уважать буду. Один слазаю. Без Витьки, без брата. Возьму Рыжего и айда. Одному, в конце концов, не так и страшно, даже если собака поднимет шум. Один-то я исчезну как тень, а Витька с братом прикроют, сами того не подозревая: если они дома, то и я, скорее всего, тоже дома, неужели я без них куда-нибудь полезу? Но сначала мы все вместе слазаем, в ветер. А потом я свою догадку проверю. Потом. Чтобы не напортить, не встревожить Зураба Константиновича.