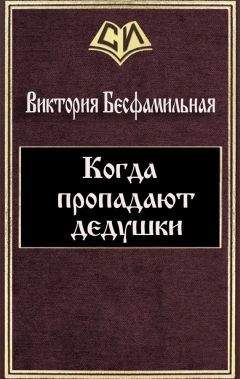Ирина Лукьянова - Стеклянный шарик
Вещи дружелюбны и предсказуемы, кроме грабель и швабр, которые лежат на дороге. У некоторых скверный характер — особенно у шерстяной одежды: когда она сердится — шерстит.
Одни вещи жалуются, другие повествуют, третьи поют романсы. Но есть класс вещей, который говорит на незнакомом языке. Иногда его узнаешь, и вещи становятся понятнее — так разговорилась со временем суровая икона незнакомого святого, и образок покойной прабабки, и свечи, и поминальник со столбиком имен по старой орфографии. От них перестало веять загробным и страшным, а стало родным и печальным.
А некоторые вещи рассказывают сказки — иногда на родном языке, иногда на чужом. Они как окошки — глядят куда-то в иное измерение, в котором все не так. На чужом говорили стеклянные шарики, бирюзово-голубые и янтарно-золотые, неотмирные по своей в этом мире ненужности. На родном шуршала старая пластмассовая миска с пластмассовыми же капельками по стенкам: в ней вечно шел дождь, и за ее мутным пластиком морковь со сметаной была Оранжевым морем, а винегрет — Багровой страной.
Что-то пыталась рассказать из густой грязи малиновая пайетка, неизвестно кем утерянная в рабочем районе — может, Одиллия летела на юг из оперного театра и обронила по дороге, — в музее оперного было таких два костюмчика размером на нынешнюю Барби: Одетты, белый с серебром, и Одиллии, черный с малиновым, — но пайетка ничего не рассказала, потому что на нее наступили. Стой, стой, подними ногу! — Ася, ты что — с ума сошла? Нечего в грязи копаться, пойдем быстрей.
Они залетали иногда в нашу пыль, на пятиэтажные улицы в зарослях полыни, лебеды и молочаев: голубое перышко в низеньких зарослях горца птичьего во дворе, где голуби лакомились крохотными семенами; или фосфорический олень, любоваться которым надо было, забравшись в шкаф у соседей — на свету он ничего собой не представлял, а в шкафу рос, становился большим и уводил за нафталиновые горы, за коврик с оленями — в вольные леса, где на скалах растут замки, похожие на гнезда поганок.
Некоторые жили в маминой коробке, нездешним сиянием выламываясь из будничной кучи запасных пуговиц: павлинья, золотая-лиловая-зеленая; бирюзовая, как небесный утренний глаз, синяя, как ночной. Они возникали иногда, как король Лир в изгнании, как бывший князь за рулем такси в бедном квартале — тонкая перчатка, лоскуток бархата, лорнет, французская монета, пузырек духов из иной жизни, китайский веер, серебряный браслет, вилочка о двух зубчиках, уместная в хрущевке, как колибри в тайге.
Иногда у них был свой праздник — кобальтовые чашки кружили по накрахмаленной скатерти, как ансамбль «Березка», водили хороводы вокруг чайника, звенели золоченые ложки, поднимался пар, шуршала фольга и пахло индийским чаем, глубоким и медово-коричневым, как темное дерево стола под густым слоем прочного лака.
Иногда были катастрофы — генуборка в мое отсутствие; приезжая с каникул, я недосчитывалась верных бойцов и старых друзей: туфли, из которых я выросла, отданы, человечка в щели штукатурки замуровали, грязевой щенок на туалетной плитке смыт, доброжелательную петельку пролитого лака для ногтей стерли с пола, а она мне каждый раз улыбалась.
Выбрасывать вещи — как резать на мясо говорящих зверей. Их можно выбросить, когда они уже трупы — распались на части, разрушились, ничего не говорят.
Вон идет табуретка, ее то ли выгнали на улицу на старости лет, то ли сама ушла, чтобы не жить в приживалках. Тяжелая, сколоченная на совесть еще при Сталине, она прослужила больше полувека и помнит мытье в тазах и керосинки, она жила в крашенных казенной зеленой краской интерьерах, где лампочки не имели абажуров, а столы покрывались газетой. Ее поверхности укрыты слоями краски — белой и коричневой, и еще коричневой, и бежевой, и белой, и даже зеленой, и одно из-под другого, из-под пятницы суббота, из-под кофты рубашка, из-под нее еще какое-то исподнее торчит, из-под платка седые вихры. Вся в морщинах и мозолях, заскорузлая, характер суровый, возрастная деменция налицо — подозрительна, одержима бредом ущерба. Сама ушла, наверное, чтобы не отравили новенькие — профурсетки из Икеи, хлипкие, на чем ноги держатся. Теперь околачивается вокруг лакового стола, ей тоже наливают.
А про людей я как не знала ничего, так и не знаю.
Девять дней
«Когда бабушки умирают, они вряд ли становятся ангелами.
Я и вовсе не знаю, можно ли стать ангелом. Это как-то неканонично.
Да и бабушки наши — существа не ангельские. У них поджатые губы и жесткие глаза, они ни во что не верят и ни на что не надеются. Но вместо веры и надежды у них есть любовь, и ее много.
Они любили страну, любили мужей, любили детей и внуков, и страна списывала их в утиль, и мужья бросали, дети на них орали, когда они впали в старческий маразм, а внуки не писали и не звонили. А они, как солнце, которое не может не светить…» — на этом месте Ася остановилась и заплакала.
— Опять ревешь? — спросил Вадим.
— Опять реву, — ответила она.
— Что надо сделать, чтобы ты не ревела?
— Ничего не надо делать. Надо время. Время пройдет, и я перестану.
— Сколько должно пройти времени?
— Год, наверное.
— И ты весь год будешь реветь?
— Ну, не весь. Так, время от времени.
— Я чем-нибудь могу помочь?
— Можешь не замечать. А можешь обнять, например. И сказать что-нибудь нежное, — Ася уже привыкла, что Вадиму были нужны точные инструкции. Дожидаться, что он сам догадается, подойдет и обнимет, можно было весь год — а он бы так и не догадался. Или, может быть, размышлял бы, уместно это или неуместно, и пришел бы к выводу, что лучше не делать совсем, чем делать ошибочно. Ошибаться Вадим не хотел.
Он подошел, неуклюже обнял:
— Ты хорошая, — чмокнул в щеку. — Полегчало?
— Полегчало, спасибо, — Ася отцепила от себя его руки и пошла в ванну, сердито подумав «Чурбан деревянный». В ванной она включила воду, поревела, умылась, потом пошла на кухню шуршать в аптечке и пить персен.
Вернувшись, перечитала написанное и зачеркнула: пафосно. Она и записывать это стала, чтобы хоть куда-то деть свою разрывающую тоску, а не только в слезы. Рассказать это было нельзя, она уже раз пять начинала и никак не могла рассказать — ну что тут такого, была бабушка, работала педиатром, и в войну еще, в эвакуации, работала медсестрой в детской больнице. И весь город с ней здоровался, и в магазине иногда пропускали без очереди. Она не была похожа на добрую старушку в очках и с вязаньем, хотя и вязала, и носила очки. В ней не было ласковости — рука тяжелая, жесткая, взгляд испытующий, нежных слов не говорила сроду, хвалила редко. В ней не было сентиментальности — то ли от профессии, то ли от войны, то ли от сельской жизни она испарилась, а может, и вовсе ее не было. Котят, нагулянных кошкой, топила быстро и без рефлексии, кур сама резала на суп — это когда еще держала кур, — так же спокойно и уверенно, как выпалывала сорняки на огороде. Сад-огород у нее был обычный, но Асе всегда казался чудесным: такая нежная в нем росла морковка, такой кружевной укроп, такая крупная малина, так тихо светила голубыми звездочками огуречная трава, так благоухала земляника. И флоксы со сладкими хвостиками, и гладиолусы всех цветов, и мальвы, и огромные черные вишни, и полосато-розовые яблоки. В бабушкином саду цвели чайные розы и летали махаоны. Цветы, кажется, бабушку слушались — послушно зацветали под ее рукой, кусты послушно подставляли ветки под обрезку и подвязку, деревья подходили по очереди белить стволы. Птицы заселяли скворечники и обклевывали насекомых в огороде. Ася думала иногда, что стоит бабушке махнуть рукавом, и вся смородина, светящаяся на солнце красным и желтым, сама вспорхнет с веток, уляжется в банки и превратится в компот. Бабушку слушались чужие козы и бродячие собаки — может быть, потому, что она никогда их не боялась и видела в них своих пациентов. Слушались взрослые хулиганы, которые от ее короткого замечания увядали и отползали в тень. Слушались районные начальники — когда у бабушки еще были силы, ее постоянно выбирали депутатом, и она ходила по кабинетам, выбивая кому-то жилье, кому-то пенсию, кому-то материальную помощь. Кажется, ее даже вещи слушались: полы сияли чистотой, вещи сами складывались стопками и раскладывались по местам — столько она успевала за день, пока Ася сидела где-нибудь в саду на дереве с книжкой, а Мишка носился с пацанами на улице, прячась за кустами сирени и акации у чужих калиток и стреляя в противника из деревянного автомата. Вещи слушались: очки чинились, окна красились, носки штопались, печь исправно топилась — в доме никогда не было ничего дырявого, худого, сломанного. И дом, и сад, и растения, и звери, и дед, пока был жив, и внуки, пока наезжали — все держались ее любовью и попечением. Любовь, о которой никогда не говорилось вслух, сама сияла из садовых роз, расстилалась мягкой постелью, поднималась паром из чугунка, косо светила в окно сквозь зеленую занавесь хмеля, ластилась рукавами пушистого свитера. Дом ее был центром мира — так незыблемо и спокойно он стоял, и вокруг него завивался сад, и дальше стелились поля, щетинились леса, дыбились горы и громоздились города. И жить в этом мире и терпеть его весь можно было только потому, что наступало лето, вокруг дома краснела клубника, цвели розы, на столбах ухали горлицы, в небе пролетали аисты, а у стола сидела бабушка и вязала носок. Она и знать не знала, что в одиночку держит этот мир.