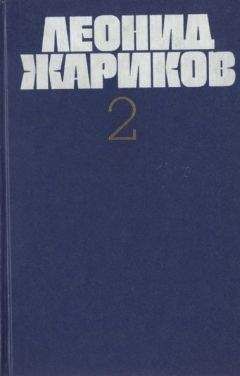Фрида Вигдорова - Это мой дом
– Какие все умные стали! – язвительно произносит Катаев.
– А что ж, и стали, – спокойно подтверждает Крикун.
– Эй, Катаев, ты поосторожнее! – громко перебивает всех Коломыта. Но он вовсе не вмешивается в этот умный разговор, ему надо сказать о своем: – Капуста так не любит, еще корни заденешь. И землю кругом разрыхли, а то задохнется. И полить надо.
– Вчера поливали, – недовольно бурчит Николай.
– Опять надо.
– Так чего теперь – полоть или поливать?
– Кто это днем поливает? Вечером.
– Верно. Вечером. А почему? – спрашиваю я Василия.
– Влага медленней испаряется! Влага медленней испаряется! – пританцовывая, кричит Горошко, который умеет шпарить цитатами из учебника.
– Ты чего поливаешь холодной? Не видал, в бочке вода цельный день грелась? – обращается Коломыта вечером к тому же Катаеву.
– А не все равно, что из бочки, что из колодца!
– Вот я тебя в прорубь зимой окуну, тогда будешь знать, все равно или не все равно, – сурово говорит Коломыта, отнимая у Николая лейку. – Капусту вот как надо поливать – досыта. Не польешь – кочан пойдет мелкий, сухой. У капусты воды особенный расход.
– А почему? – снова и снова допытываюсь я.
На это Василий ответить не может. В нем, как в надежной погребице у запасливого хозяина, скоплен верный крестьянский опыт. Он знает, он уверен в своем знании. Но – почему? Почему? Мне кажется – его это просто не интересует и мои вопросы только докучают ему. Не все ли равно – почему. Такой у капусты нрав, она любит пить досыта, вот и весь сказ.
– Хороший парень какой! – говорят ребята из сельхозтехникума (они проходят у нас практику). – Золотой будет агроном! Вот кончит семилетку – сразу к нам! У него любовь к нашему делу.
Любовь-то любовь… Но вечерами иной раз на Василия нападает откровенность – и вот он говорит мне, вздыхая:
– Ничего тут стало… Эх, кабы не школа!..
* * *В полутора километрах от нас жила семья доктора Шеина.
Иван Никитич Шеин был замечательный хирург. С самых молодых лет ему сулили будущность талантливого ученого, но он выбрал другой путь – и уже лет тридцать врачевал на селе. В последние годы он сменил Подмосковье на теплую Украину и жил неподалеку от Черешенок уже третье лето. Он больше не работал в больнице, но слухом земля полнится – за это время его узнала вся округа, и древние старики и ребятишки привыкли считать его «своим доктором». Шли к нему запросто, приезжали издалека – и человек, который, в сущности, ушел уже на покой, никогда не отказывал: днем ли, ночью, поднятый с постели, ехал по первому зову.
К нам у Ивана Никитича был какой-то особенный, непонятный мне интерес. Звали мы его редко, болеть у нас было не в обычае. Но он сам приходил к нам, серьезно спрашивал: «Гостя, принимаете?» – и оставался на час, на два. Подолгу сиживал в саду, где вместе с кустами малины и смородины прочно пустил корни Крикун. Иван Никитич никому не мешал, не приставал с вопросами, – ребята сами охотно рассказывали ему о своих делах, о себе. Его не стеснялась даже самая застенчивая из обитателей нашего дома – Лида.
Лиду занимали прежде всего нравственные категории. Она определяла людей такими словами, как «справедливый», «хороший» или, напротив, «нечестный», «злой», «жадный». Про Ивана Никитича она сказала:
– Он добрый. Это хорошо. Потому что доктор – самое главное – должен быть добрый.
– Самое главное для врача – знания, опыт и мужество, – сказал Василий Борисович.
– Это конечно, – согласилась Лида, – но доброта главнее. Потому что если не жалеешь человека, как ему поможешь?
– А вот так: вправил руку – и хорош! Или отрезал ногу – быстро, раз, раз! При чем тут жалость? – заявил Митя, словно он уже самолично отрезал не меньше десятка чужих ног.
Лида сурово поглядела на него карими глазищами, но спорить не стала.
Иван Никитич тоже отмечал Лиду:
– Какие внимательные глаза у девочки. И так она, знаете, требовательно смотрит… засматривает вам в душу, как будто проверяет – все ли у вас там в порядке?
Он навещал нас неожиданно, в самые разные часы, а походив, поглядев, спрашивал меня про ребят:
– Вот этот, такой шумный, – он вообще как себя ведет?
– Какой? А, Катаев… Это твердый орешек, – честно отвечал я.
– Расскажите мне о нем, пожалуйста. Чем он труден для воспитателя?
Особенно настойчиво он расспрашивал о ребятах, которые казались ему трудными. Вопросы были довольно однообразные: (Он непослушен?.. Он послушен?.. А как вы добиваетесь послушания?..»
Конечно, Шеин замечательный врач, думал я. Но все-таки почему он занялся медициной, если его так увлекает педагогика?
Один простой случай поразил его чрезвычайно. Лючия Ринальдовна вышла из кухни с ведром помоев. Митя выхватил у нее ведро и сунулся в кухонное окно с криком:
– Какой слепой черт дежурит, ничего не видит?
– Вы обратили внимание? – обернулся ко мне Иван Никитич. Седые брови его треугольником всползли на лоб, серые глаза за очками без оправы смотрели растерянно. – Нет, вы подумайте! Прелестный мальчик!
– Что тут такого прелестного? – сказал я сердито. – Или, по-вашему, старуха (бог ты мой, кого я называю старухой!) должна таскать тяжелые ведра на глазах у здоровых мальчишек?
– Нет, нет, конечно… – забормотал Иван Никитич. – Поступок вполне естественный. Несомненно, это в порядке вещей, но… не всегда ведь… не всегда желаемое бывает действительным, если можно так выразиться.
Я только плечами пожал. Не хватало еще, чтобы и я стал умиляться по поводу Митиной расторопности.
– Не навестите ли вы меня как-нибудь? Чаю выпьем, потолкуем, – предложил он однажды. – Приходите с женой, очень буду рад.
– Охотно! – ответил я и тотчас пожалел, потому что ходить в гости для меня труд тяжкий, да и времени на это не оставалось. Но слово не воробей…
А Шеин уже поймал меня на этом неосторожном слове: – Вот и хорошо! Будем ждать. – И прибавил: – Очень бы хотелось с вами посоветоваться… по некоторым поводам.
В июне вышло постановление «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». Это означало, что нам пришлют новых ребят. Как всегда бывает, это случилось в такой час, когда мы меньше всего этого ждали.
Мы с Василием Борисовичем были в Старопевске, в облоно. В доме оставалась Галя. Она и приняла с помощью Мити десяток малышей от восьми до десяти лет и пятерку довольно больших мальчишек – старшему было четырнадцать, звали его Миша Вышниченко. Все они мирно вымылись в бане, с удовольствием пообедали, а потом Вышниченко сказал:
– Айда, ребята, отсюда! Что это за детдом – домишки маленькие, теснота. Все равно его распустят, и нам опять ходить-бродить. Пошли!
Видно, все они перед тем были в одном приемнике и отлично понимали друг друга, потому что Мишу послушались тотчас же – поднялись и двинулись к выходу.
– Эй, вы что? Окосели? – Дмитрий загородил им дорогу.
– А твое какое дело? Пусти.
Вышниченко толкнул Короля, тот схватил его в охапку так, что мальчишка не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Зато язык у него был ничем не связан, и он поливал Короля отборной бранью. Галя пыталась уговорить ребят, но они смотрели на одного Вышниченко, а он и ей отвечал руганью. Побившись с ними некоторое время, Галя сказала:
– Отпусти его, Митя. – И добавила, обращаясь к Вышниченко:– Можешь идти, здесь никого насильно не держат. Но малышей я с тобой не отпущу. Идемте, ребята, я покажу вам, какая у нас будет карусель.
Митя понял ее на лету – он выпустил Вышниченко и, сгребая в охапку малышей, сколько могли ухватить зараз его длинные руки, весело подмигнул рыжим глазом:
– О братцы, у нас не одна карусель, у нас тут еще кое что найдется! Залезай в самолет, будешь летчиком! – и, выбрав самого удивленного и растерянного малыша, вскинул его над головой.
Остальные так и охнули от изумления и зависти. Коломыта подхватил еще кого-то из маленьких, Лида взяла за руку другого, Катаев крикнул:
– Чего стоите? Всего хорошего! – и сгреб еще двоих.
Вышниченко кинулся к нему с кулаками, но его придержал Искра.
Малыши не успели опомниться: Митя, смеясь и балагуря, покрутил перед ними красный карандаш, подкинул вверх.
– Хоп! – Карандаш точно растворился в воздухе. – Хоп! – И Митя с преувеличенным удивлением вытащил этот самый карандаш из-за шиворота маленького Сени Артемчука. И Сеня стоял, растопырив руки и вытаращив глаза.
Вышниченко был взбешен. Четверка старших топталась, не зная, что предпринять.
– Айда! – повторил он, и четверо поплелись за ним. Их никто не удерживал.
Минут через двадцать приехали мы с Казачком. Галя была смущена и огорчена, Василий Борисович принялся утешать ее, а я только бросил наспех: «Не горюй, обойдется!» – и ринулся на шоссе, еще не очень понимая, как быть.
Но, видно, я родился под счастливой звездой: по шоссе навстречу мне шла знакомая колхозница Татьяна Егоровна и вела в поводу гривастую белую лошадку. Я кинулся к ней.