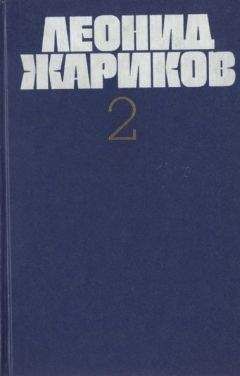Фрида Вигдорова - Это мой дом
– А если б я сказал другую цифру?
– Тогда бы то и было, – бойко отвечает Лира под общий смех.
– Нет, – сердито упорствует Карев, – а если моя любимая цифра – восемь? А если – три?
– У, какой хитрый! Что это у вас сколько любимых цифр? Любимая – значит, одна, – наставительно говорит Лира.
Синие глаза Вани Карева гневно темнеют. Он уже не помнит, что он взрослый, солидный товарищ и даже секретарь комсомольской организации, ему непременно надо как-то взять верх над этим дерзким и напористым мальчишкой. Но Лира успевает опередить его.
– Да вы не сердитесь, – говорит он вкрадчиво. – Вот у вас фамилия начинается с какой замечательной буквы – прямо волшебная буква. Она может сделать кожаный пояс камнем. Ну-ка, думайте.
В публике замешательство. Лира приходит на помощь:
– Вот ремень. А если прибавить «к»?
– Кремень! – кричит Горошко в восторге от своей сообразительности.
– Это такая буква! – не унимается Лира. – Всем буквам буква! Рыб она превращает в столярный инструмент…
– К-лещи? – осторожно догадывается Карев.
– То-то и оно! А если взять часть лица и прибавить эту самую букву «к», получится животное.
– К-рот!
– А прибавьте к той букве растение – и станет дерево.
– К-лен!
Лира ведет эту часть своей программы так же стремительно, как играли актеры. Его быстро понимают, быстро отвечают ему, и Карев, позабыв про любимую цифру, вполне доволен, что его фамилия начинается с такой замечательной буквы.
После спектакля дежурные позвали нас ужинать. Пока ребята рассаживали гостей, я заглянул на кухню и остолбенел. Вместе с Галей и дежурными у плиты хлопотала Лючия Ринальдовна – с засученными рукавами, в пестром фартуке.
– Вы?! – только и сказал я, хотя всегда считал себя человеком, который готов к любым неожиданностям.
– Да-да, я уж сразу сюда, вот – принимаю дела на ходу.
– Буду считать, что вы – мне первомайский подарок, – сказал я, крепко пожимая ей локоть (руки у нее были в муке), и, очень довольный, пошел к праздничному столу.
Еще не все гости уселись, а Ваня Горошко и Лева Литвиненко уже заняли свои места. Я взглянул на них как мог выразительно, но они не взяли в толк. Я направился к ним, но меня опередил Митя. Он прошел мимо, нагнулся к ребятам с самой милой улыбкой и сказал-то, наверно, словечка два, не больше, но они вскочили как ошпаренные и стали усердно усаживать гостей.
– Вы хорошие ребята. И дельные, – убежденно сказал Карев и вдруг спросил: – А музыкального инструмента у вас нет?
Музыкального инструмента у нас не было. Карев огорчился, но, подумав минуту, успокоил то ли нас, то ли себя самого:
– Ну и не надо! – и запел:
Стоит гора высокая, а под горою гай…
Все притихли. Голос у Карева оказался небольшой, но свежий и чистый. Почему-то особенно силен и заметен стал запах молодой зелени, вскопанной земли, вливавшийся в раскрытые настежь окна столовой.
Если человек хорошо поет, можно считать, что у него есть ключ ко всем, сердцам. Вот приехал – и ничего в нем приметного, необычного: и ростом невелик, и не красавец, и так вздорно ссорился с Лирой, и ничем не выделялся среди своих.
И вдруг…
– Еще! Еще! – закричали все, когда Карев кончил.
Он не заставил себя просить и спел «Дывлюсь. я на небо», а когда мы снова закричали: «Еще!» – сказал:
– Нам уже пора, темно.
И вдруг поднялся Искра, а за ним весь первый отряд. Ребята подошли к Степе, он взмахнул рукой, словно заправский дирижер, и мы услышали:
Эта песня про меня и про тебя,
Эта песня про черешенских ребят.
Мы сложили и поем ее с душой,
Перед нами путь далекий и большой.
Скворец – в скворешнике,
Орех – в орешнике,
А мы живем теперь
В своей Черешенке.
Здесь собрались мы на праздничный костер,
Здесь нашли себе мы братьев и сестер,
Для того семью такую я нашел,
Чтобы жить нам было вместе хорошо.
На этот раз припев мы пели уже все вместе – и слова и мелодия запомнились быстро.
Хоть нас вырастят не матери-отцы,
Хоть разъедемся потом во все концы,
Вспоминать родной наш дом я буду рад,
Всюду встретится тебе сестра иль брат.
И снова все подхватили:
Скворец – в скворешнике,
Орех – в орешнике…
Ни завидовать отряду Искры, ни горевать о собственной неизобретательности было нельзя.
* * *– Глядите, Семен Афанасьевич! – Горошко стоит задрав голову. – Иней!
И верно, верхушки сосен поседели от инея – это в мае-то! Май на Украине всегда теплый, а тут ударил настоящий мороз, дрожь пробирает, зубы постукивают. Ну, мерзнуть не придется, работа не даст – надо думать о посевах.
Позавтракав, ребята расходятся на работу, а меня зовут в правление колхоза: председатель просит зайти, да поскорей! Вакуленко зря звать не станет, я тотчас иду и встречаю ее по дороге.
– Будь другом, – озабоченно говорит Анна Семеновна, едва поздоровавшись, – созови своих ребят, которые постарше, поразумнее. Наша Надя с ног сбилась, с рассвета глаз не осушает – знаешь, сколько она сил на свою свеклу положила!
Про Надю Лелюк мы все знаем. Она со своим звеном обещала вырастить не меньше пятисот центнеров с гектара. Как тут не помочь!
Первое, что услышали ребята на поле, было:
– Чего их нагнали? На биса они мне сдались!
Это кричала высокая, опаленная весенним солнцем и ветром девушка, только белки да зубы сверкали на черном от загара лице, по которому она кулаком размазывала слезы.
– Не слушайте ее! – сказала Анна Семеновна. – Не слушайте и беритесь за дело. Это в ней обида кричит. Знаете, сколько она труда на эту свеклу положила? А тут на тебе – мороз! Эй, девчата, получайте помощников!
Зеленые листья свеклы съежились, пожухли. Лелюк смотрела на них, сжав зубы.
Чуть потоптавшись – как-никак прием был не из любезных, – наши ребята вместе с девушками взялись за дело: вокруг плантации кучами разложили навоз, солому и подожгли.
– Только под ногами путаться! И чего они помогут! – не унималась Надя.
– Ох и язычок! – сказал вдруг Митя. – У меня теща была – ну точь-в-точь такая же!
Надя остановилась, взглянула на него и засмеялась сквозь слезы.
Наши, сменяясь, работали на свекле до вечера. А костры жгли и ночью, и на другой день. Ребята возвращались домой усталые, закопченные и пахнущие дымом, в волосах у них торчали соломинки.
– Лается она хуже Кольки, – сказал Мефодий. – Прямо бессовестная. А другие девчата ничего, добрые. И все говорят «спасибо» и «спасибо».
– Все еще лается? – удивился я.
– Ну, поменьше, – ответил добросовестный Витязь. – Можно сказать, уже мало лается. Маруся ей кричит: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей – верно, Надя?» А она говорит; «Ну, верно».
* * *В школе, в детском доме нет таких людей, чтоб не приносили ни вреда, ни пользы. Недоброй памяти Марья Федоровна все вокруг себя отравляла духом грубости, неуважения, неоправданной злости. А приехала Лючия Ринальдовна – и с нею пришло в наш дом нечто новое. Уж не говорю, что готовить она была великая мастерица, это хоть и проза, но весьма существенная. Какой-нибудь гороховый суп или незамысловатые картофельные котлеты – прежде ребята встречали их дружным и недвусмысленным: «У-у-у!» – теперь находили самый радостный прием.
В первые же дни ребята почувствовали, что каждый ей интересен. Придя из школы, почему-то хотелось сообщить ей: «А меня спрашивали! Про лягушек и про ящериц! „Хорошо“ поставили!» И она не отделывалась вежливым «да?». Она шумно радовалась: «Неужели? Нет, ты меня удивил! Ты же сказал, что не успел прочитать по второму разу?» Значит, не пропустила мимо ушей то, что говорилось за чисткой картошки и мытьем кастрюль!
Кроме того – и это было ох как важно! – Лючия Ринальдовна была многорука, она все умела.
Вскоре после Майских праздников мы получили цветной сатин на летние платья девочкам. Я полагал, что мы сделаем всем одинаковые платья. Лючия Ринальдовна восстала:
– Как это одинаковые? Рабочий костюм – это пожалуйста. Но домашнее платье, а тем более нарядное, шить без разбору, всем одно и то же – как можно! Дети-то разные! Вон Лида худенькая – ей оборочки. Олечка по-другому сложена – ей и фасон другой.
И словно мало ей было своего дела, она взялась руководить шитьем. Ей не надоедало подолгу рассуждать – кому что пойдет, У нее были свои взгляды и своя терминология.
– Вот это просто, но мило, – говорила она. – А это – простенько, но со вкусом.
Постепенно мы взяли в толк, что это и впрямь не одно и то же!
Позже, когда мы шили костюмы мальчикам, кто-то сказал Витязю:
– Стой прямо, чего живот выпятил!
И Лючия Ринальдовна строго возразила:
– Не трогайте его, у него от природы такой гордый ход!
Если у портнихи дело не ладилось, Лючия Ринальдовна вооружалась ножницами и иглой и мигом подкраивала, сметывала, не столько объясняя, сколько показывая, совсем как Василий Коломыта.