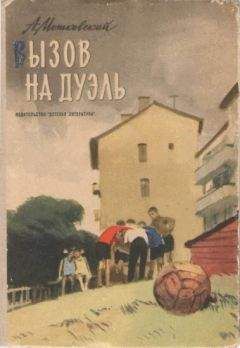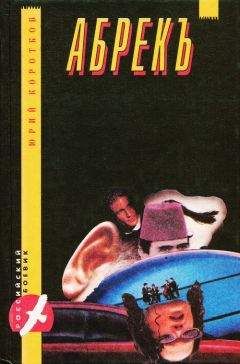Валентина Чаплина - Знакомая варежка (Повести и сказки)
Ребятам кажется, что не сидят они кто на лавочке, кто на трёхколёсном, а кто на земле. Ребятам кажется, что они сами — звёздочки. Сами там, где летают сейчас два наших сказочных и очень земных человека. Так хорошо с ними летать. Так необыкновенно хорошо.
Вдруг свист, длинный и резкий, стеганул всех. Прямо, как плетью, по лицам стеганул. Вздрогнули звёзды и пугливо отлетели, снова стали маленькими и далёкими. И луна попятилась. И теперь уже не допрыгнуть до неё ни с каким шестом. Даже самому первому прыгуну не допрыгнуть.
Что такое? Обернулись на свист-плеть. Незнакомый мальчишка. Кепочка козырьком назад. В зубах папироса. Вынул её, сплюнул в клумбу и опять длинной плетью стеганул по лицам. Вместо глаз — узкие полосочки. И как он ими видит?
— Ты чего это? — вскочил Ерошка.
— Кубыша мне! — и опять сплюнул в клумбу, прямо на астры.
— Кого? Кого? — вытаращил глаза Алёша.
— Кубыша!
Герка судорожно сполз с лавочки, сел на землю и прижался лицом к колесу чьего-то велосипеда. Хотелось стать маленьким, незаметным, совсем невидным. Кто-то тихонько и равномерно дубасит его по спине. Это девчонка, сидящая на велосипеде, болтает ногой.
— Кубыша-а? А у нас нет Кубышей. У нас все нормальные, — звучит Алёшин голос.
Весна вышла на балкон. Слушает, что во дворе. Глаза у неё, наверно, ещё синее, чем небо днём, только сейчас незаметно. Она наклонилась вперёд, а косы свесились и достают до самых перил.
— Нет, говоришь? — узкие полосочки вместо глаз стали ещё уже. — Спорим, что есть. Здесь он, в этом доме живёт.
— Иди-ка ты, знаешь, куда, со своим спором! — рванулся с места Ероша.
Алька вовремя схватил его за рукав и заговорил:
— Ошибся адресом! Мы всех ребят из этого дома знаем. Ищи в другом месте своего Кубыша. А найдёшь, нам скажи. Мы тоже его, между прочим, ищем.
— И в клумбу плевать не смей! — опять вырвался Ероша. Кулаки его побелели. Будто из рукавов торчат два яблока.
И парень своими полосочками увидел их. Оценил обстановочку и стал медленно, нестерпимо медленно повора-а-чи-ваться к выходу. Герке показалось, что пока он повернулся спиной, сто раз умереть можно было.
А Весна всё стоит и стоит на балконе. Не уходит. А у Герки лицо голубое-голубое, даже синее. Страшнее, чем у мертвеца. От луны, наверно. А Весна смотрит прямо на него, и больше ни на кого не смотрят эти девчачьи понимающие глаза. И зачем они только живут на белом свете, эти девчонки с их глазищами?!
У Ерошки кулаки уже не белеют. Разжались пальцы.
Луна и звёзды на своих всегдашних местах. Не хотят подлетать ближе. Зови не зови. Не спускаются. Вместо серебряного звона колокольчиков в ушах длинный резкий свист-плеть.
Эх, испортил парень вечер. Какой вечер был!
А кто испортил? Только ли тот парень с глазами-полосочками?
Идите в дом
— Приземлились! Приземлились!! Приземлились!!! Целы и невредимы!
Что творилось во дворе, рассказать невозможно. Ребячье и взрослое «ура» стояло непроходимой стеной. Опять казалось, что оно — из всех окон, со всех балконов и обязательно такое, что долетает до космоса. И опять хотелось прыгать выше домов, выше телевизионной вышки, выше самого синего неба.
Потом, когда первый, самый первый восторг улёгся, «ура» стояло уже проходимой стеной, то есть в ней появились окна и двери. Невозможно же всё время орать. Но невозможно и молчать. И на месте стоять невозможно. И двор гудел, звенел, смеялся неугомонными счастливыми голосами.
Ерошка от восторга залез на деревянную скамейку и плясал на ней, рыжий, лохматый, а в зелёных глазах отчаянно весёлые чёртики.
Плясал, плясал, да вдруг и… замер… Даже руки забыл опустить. Остановился с руками, упёртыми в бока, и стал похож на большущую заглавную букву «эф». Напряжённо, не отрываясь, смотрел в ворота. Сначала на лице — недоумение, потом — гнев, потом — тоска и боль и даже растерянность.
— Она, она… она…
— Кто? Где? — ребята тоже примолкли, завертели головами.
— Та, золотозубая, что цветы продавала.
Все обернулись к воротам. По двору шла толстая низкая женщина в ярко-жёлтом платье. Шла и улыбалась во весь рот. А во рту — золотые зубы. Так и блестят. Так и сверкают. Наверно, сто зубов, как у акулы. Ну, может быть, у акулы не сто, а у этой сто. А в руке пустое ведро. А рядом с ней тук-тук-тук по асфальту коренастый палкой — Геркин отец, Степан Васильевич. Шея красная, как помидор. Пьяный.
— Повезло тебе, Грушенька, — и он кивает на пустое ведро.
А она ещё шире улыбается. И все видят, что у неё не сто, а двести зубов.
Ребята стоят и молча глядят на этих двух людей. Тук-тук-тук. Всё громче разговаривает палка. Она будто что-то говорит асфальту, долбит и долбит ему одно и тоже, а он всё не понимает. Тук-тук-тук. Уже поравнялись с ребятами. Идут в Ерошкин подъезд.
Вдруг из подъезда — Герка! Он бегал домой и сейчас, ничего не подозревая, радостно прыгает прямо… к золотозубой в пасть. А та расплывается в улыбке:
— А-ах, Герочка, племянничек, — и толстая рука с кольцами тянется к Герке. И толстые губы выпячиваются, вот-вот поцелует.
Герка сначала замер, потом остекленелыми глазами глянул на ребят; дико метнулся в сторону. Подальше от неё. Но отцова пьяная рука цап и держит. Мёртвой хваткой держит. У бульдогов бывает мёртвая хватка, так и Герке сейчас из этой ручищи — бульдожьих челюстей, не вырваться.
— Ты что с родной тёткой не здороваешься?
Герка ничего не отвечает, молча рвётся из бульдожьих челюстей. Стиснул зубы и рвётся.
— Вот она, современная молодёжь-то. Родных признавать не хочет. И чему их в школах учат? Портят только, — пошла тоненько причитать золотозубая. — Смотри, Стёпа, совсем от рук отобьётся. Связался, видишь, с какими-то на новой квартире. Мне Валерия говорила, сумасшедшие!
— Сто-ой! — рычит отец. — Чего вьюном вертишься? Всё равно не пущу! — подтянул Герку прямо к пьяному лицу и дышит перегаром и шипит: — Что в сад носа не кажешь? Я один на вас, холуёв, р-работать должен? Связался с бездельниками…
Шея у отца уже не красная, а малиновая. Кожа напряглась, воротник стал тесен, вот-вот лопнет.
— Щенок! — на весь двор, на весь проспект, на весь город рявкает отец.
И вдруг Весна, тоненькая, лёгкая, будто ничего не весит, порх по воздуху и к ним. Герка даже вертеться перестал.
— Нет, Степан Васильич, Гера не щенок. Он человек, — и взяла его за руку, а пальцы хрупкие, музыкальные, словно прозрачные, каждая жилка светится.
— Э-эх, деваха, вижу, куда гнёшь, — хитро и пьяно подмигнул Геркин отец, — только рано заступаешься. Рано женишка себе подглядела. Молокосос он ещё, — и погрозил Весне крючком пальца, прищурив пьяный глаз.
— А современные-то девки не то, что мы, дураки, были, — и тётка Груша, переглянувшись с пьяным, визгливо захохотала.
В этот момент Герка рванулся с такой силой, что даже бульдожьи челюсти не смогли его удержать. Минута — и его во дворе уже не было. Ерошка спрыгнул со скамейки и за ним.
А Весна стоит и не знает, что делать, что отвечать. И смешно, и горько, и больно, и очень как-то странно на сердце. Она только часто моргает. Ресницы хлоп-хлоп-хлоп.
Вдруг к Геркиному отцу шагнул Виктор Ильич. Никто не видел, когда он появился во дворе. Очень сухо, сурово и властно приказывает Степану Васильевичу и тётке Груше:
— Идите в дом!
Доброго Виктора Ильича ребята никогда не видели таким. Он любил сидеть под грибком на скамейке и держать на коленях маленьких ребят их дома. Всех-всех по очереди. Посадит к себе девчонку или мальчишку, а потом водит головой из стороны в сторону и бородой своей щекочет ребячью шею. А ребята заливаются, хохочут. И очередь стоит около этого длинного добродушного старика:
— И мне пощекочи! И мне!
А он и сам хохочет вместе с ними. И от этого борода трясётся. И ребятам ещё щекотнее становится.
Но сейчас он так строго и властно приказывает, что и тётка Груша, и Геркин отец молча, покорно идут в дом.
Ясно и понятно
Ерошка еле успевает за Германом. У Ерошки тоже по физкультуре пять, но догнать Герку просто невозможно. Вот и кончился проспект, уже улица Карла Маркса, площадь Ленина. Обоим нет сил бежать, устали, и они идут. Быстро идут по улице. Совсем недалеко Ероше до товарища, но ускорить шаги он не может.
— Ге-ерка, постой! — запыхавшись, кричит Ерошка. Но голос срывается и далеко, не летит, а остаётся где-то здесь, рядом. — Посто-ой! — почти шёпотом кричит Ероша.
И Герман неожиданно оборачивается. То ли услышал, то ли почувствовал спиной. Оборачивается, видит запыхавшегося Ерошу, но не останавливается. Продолжает идти, а расстояние теперь между ними сокращается. Сокращается. Сокращается. И вот уже Ерошкина рука берёт себе Геркину руку. Берёт властно, навсегда. Так и идут к Красной площади быстро, словно боятся куда-то опоздать. Молча идут. Да нет, не молча. Разговаривают руки. Они очень хорошо говорят друг дружке простые и нужные слова. И нечего зря трепать языками. И так всё очень здорово ясно и понятно.