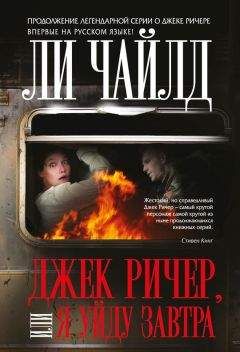Виктор Лихачев - Ангелы уходят не прощаясь
— Что такое? — заметила это матушка.
— Да так, показалось… Действительно, все четко. Так чья это бумага?
— Лев Борисович…
— Кто?
— Ну тот, известный энский краевед, который Ларису на лестнице окликнул, считает, что это бумага того самого милиционера, который умер от рака.
— Один из тех, кто хоронил блаженного?
— Да.
— Но ведь они все молчали. Разве не так?
— Молчать-то молчали, а совесть, видно, мучила. Лев Борисович вспомнил, что перед смертью милиционер тот несколько тетрадей своих воспоминаний передавал в музей. Наверное, в одной из тетрадей и был листок.
— Да, все логично. Я часто бываю в запасниках музея, там черт голову сломит.
— Арсений Васильевич! — матушка укоризненно посмотрела на писателя.
— Что такое? А, понимаю! Простите, больше не буду его упоминать. Выражение уж больно образное… Матушка, скажите, а что вы намерены делать дальше?
— Завтра еду к старцу Илие. Бог даст, благословит нам… Ладно, что об этом говорить? Завтра все видно и будет.
Но когда они шли от реки обратно в монастырь, женская натура матушки взяла свое. И она поведала о своих мечтах: перенести захоронение блаженного Петруши на территорию монастыря. Матушка даже место присмотрела — в нескольких шагах от единственного уцелевшего собора.
Над городом и обителью опускался вечер. Писатель любил эти выражения — «опускался вечер», «опускалась ночь». Как все-таки потрясающе образен русский язык! Кто видел, как в средних и северных наших широтах сгущаются сумерки — неслышно, тихо, даже как-то задумчиво, согласитесь, что более удачного выражения — «опускается вечер» трудно придумать. Матушка пошла по делам, которых у нее всегда было невпроворот, а Арсений Васильевич попросил разрешения побродить по кладбищу в одиночестве.
— Зачем спрашиваетесь? — даже обиделась матушка Евфалия, — здесь теперь ваш дом.
— Вы про кладбище? — улыбнулся писатель.
— Да ну вас! Вам бы все шуточки шутить. Я про монастырь наш.
— Извините, матушка. Просто иной раз без шутки жизнь совсем горькою становится…
— То-то и оно, — вздохнула монахиня, — всем хочется сладкого.
— А много сладкого — вредно. Ведь так?
— Все-таки вы неисправимы, Арсений Васильевич, матушка наконец-то не выдержала и улыбнулась. И мгновенно лицо ее преобразилось. Женщина будто помолодела.
— Стойте! — воскликнул Арсений Васильевич.
— Что такое?
— Улыбнитесь еще раз. Пожалуйста!
— Вы меня пугаете…
— Эх… У вас такая чудесная улыбка. Почему вы всегда нахмурены, сосредоточены?
— А чему радоваться, Арсений Васильевич? Узки врата спасения.
— Как чему? Тому, что Господь даровал нам эту жизнь, что терпит нас со всеми нашими грехами. Это я о себе, — оговорился он. — Что каждому из нас дано призвание и то, что мы делаем — нужно людям. Ведь это же здорово — быть кому-то нужным.
— Поэтому вы столько месяцев ничего не пишите…
— А потому что дурак. Неблагодарный дурак. Мне бы за каждый лишний день благодарить Бога, а я…
— Ну-ну, продолжайте, — матушка, не переставая улыбаться, смотрела прямо в глаза писателю, — мне нравится ход ваших мыслей.
— Так сказал же: неблагодарный дурак.
— Вот держите в себе это состояние, Арсений Васильевич. Будет уходить — вспомните эту минуту.
— Тогда и я вас прошу, матушка: не отпускайте.
— Кого?
— Улыбку.
— Что вы с ней ко мне привязались? Смотрите, а то рассержусь.
— Не рассердитесь, вы добрая. Просто я прошу вас быть такой, какая вы есть. Не надо соответствовать образу.
— Ну вы меня еще поучите.
— Почему бы и нет? Я же — дурак, только что сам признался в этом. А к нашему брату Господь особенно милостив.
— Опять смеетесь?
— Ничуть! Да и разве не у апостола Павла написано: «Радуйтесь!»
— Вот вы куда повернули… Ловки! У нас еще будет время об этом поговорить. Сейчас мне надо идти.
— А я с вашего позволения…
— Любите вы говорить, Арсений Васильевич. Какое позволение? Ну, конечно же, можно. Все можно.
* * *
Писатель остался один. А ведь матушка права, подумал он. «Любите вы говорить». Действительно, люблю. И чтобы слушали, затаив дыхание, тоже люблю. И вновь она права: «От избытка сердца уста молчат». Выходит — пустота в сердце?
Арсений Васильевич со вздохом опустился на скамью возле старого мраморного надгробия. Стало совсем темно, так что букв на нем он разобрать не мог. Да и важно ли это было сейчас? Ему вдруг показалось, что в его жизни уже были — и этот вечер, и это кладбище. И то, чем сейчас наполнялась его душа — тоже было. Разве это возможно? Но ведь было, было… Заречье? Но тогда, тридцать лет назад, в Туле был ясный день. Летали шмели и цвела сирень. Надо же, вспомнилось тульское кладбище… Еще хотел рассказ об этом написать. Так и не написал…
Неожиданно писатель поднялся. Впервые за столько времени ему просто физически захотелось сесть за стол, взять чистый лист и ручку. Через полчаса он уже сидел в своей келье и писал. А когда утром робкий осенний луч прорезал пространство комнаты, осветив столик, с лежавшими на нем пятью исписанными листами, писатель только лег спать. Думаю, он на нас не обидится, если мы прочтем написанное.
Старая фотография.
В свои юные годы мне хотелось знать обо всем на свете. И, разумеется, — любимым занятием было чтение. Читал я горы книг, читал до одури, но эту "жажду" утолить не удавалось. Друзья называли меня "ходячей энциклопедией", это льстило и только давало новый толчок к узнаванию всего и обо всех.
Сейчас об этом вспоминается с улыбкой, а тогда… К двадцати годам все острее вставал передо мной вопрос о смысле жизни и вновь, наивный, я отыскивал очередную книгу и свято верил: вот она, самая-самая, она научит меня жить…
Впрочем, искать-то истину я искал, но и без элемента тщеславия, повторяю, не обходилось. Какое это было наслаждение, в компании, средь оживленного спора, небрежно бросить фразу — то ли Паскаля, то ли Ницше… А еще эффектнее, туша огарок сигареты или сделав последний глоток портвейна и подержав рюмку перед глазами, будто увидел в ней что-то необычное, произнести: "У Монтеня есть хорошая мысль".
Вскоре я стал замечать, что уже начинаю мыслить цитатами — красивыми ли, остроумными, а то и просто мудрыми, но сам умнее не становился, может быть, даже наоборот. Книга стала моим другом, но не смогла объяснить те самые истины, ответы на которые я так тщетно искал. Много позже на глаза мне попалось стихотворение, — даже автора его не знаю. Четыре строки из него просто резанули по сердцу, — это были слова про меня, двадцатилетнего:
Я прозревал, глупея с каждым днем,
И прозевал домашние интриги,
Не нравился мне век и люди в нем
Не нравились. И я зарылся в книги.
Одним словом, книжная мудрость, не пропущенная через сердце, не обогащенная опытом жизненных ошибок и неудач, не сдобренная солью от пота трудов праведных и пройденных дорог, — всего лишь "суета сует"…
С улыбкой листаю свои старые записные книжки: "Время потому исцеляет скорбь и обиды, что человек меняется: он уже не тот, кем был". Блез Паскаль,
Время… Пришел однажды день, и я понял всю неумолимость, трагичность, жестокость времени. До этого я что-то "глубокомысленно" говорил на семинарах по философии, упражнялся в остроумии. А на Тульском кладбище, очень старом и заброшенном, мне стало понятно сердцем то, что раньше понимал только умом.
Не знаю от чего, но куда бы я ни приходил в своих странствиях, обязательно шел на местное кладбище. Хожу вдоль оград, читаю фамилии на памятниках, считаю, сколько прожил человек. На кладбищах хорошо думается, а грусть тихая, сладостная. Когда-то Жуковский написал элегию " Сельское кладбище", где очень хорошо выражено настроение:
В туманном сумраке окрестность исчезает…
Повсюду тишина; повсюду мертвый сон;
Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает,
Лишь слышится вдали рогов унылый звон.
Лишь дикая сова, таясь…
То кладбище было уже заброшено. Многоэтажки городских окраин подступали к нему все ближе и ближе. Я долго ходил меж старинных надгробий и думал о людях, лежащих здесь, об их быте, теперь безвозвратно ушедшем; думал, точнее, представлял их жизнь, заботы… И вдруг на одном надгробье я увидел фотографию. Чуть ниже ее — подпись. Такие-то муж и жена… скончались… году. А на фотографии — они, в день своей свадьбы. Он — сидит на стуле, руки лежат на коленях. Завитые усики, ровнехонький пробор. Ему под тридцать, лицо очень серьезно, даже важно. Она — стоит, положив ему руку на плечо.
Опереться на плечо, — думаю я, — как это верно, какое удачное и точное выражение. Рука у нее маленькая, беззащитная, а он такой уверенный в себе. Белое платье. Фата. Красивое лицо. Счастливое, но тоже очень серьезное. Наверное, так было принято — не улыбаться. Сдержанность даже во взгляде. Фотограф, — представляю опять, — что-то щебетал без умолку, отпускал комплименты барышне, может быть, про птичку, которая вылетит, говорил… Щелкнул — и осталась фотография. Мгновение остановилось. Навсегда.
Я стоял пораженный. Никогда не видел свадебную фотографию на надгробье. Вновь всматриваюсь в нее. И они, тогда молодые, моложе, чем я сейчас, смотрят на меня. Смотрят — и молчат. И только ветер чуть колышет траву, под которой они лежат. Между нами — вечность, между нами тишина, которую живым не услышать покуда они ходят по земле. И словно весточка оттуда — эта фотография.
Когда они фотографировались, им, наверное, казалось, что впереди бесконечная жизнь. Разве думают на свадьбе о смерти? Только что они стояли в церкви у аналоя, хор им пел "Многая лета". Дома готово застолье, собираются гости. Целую неделю их свадьба будет главным событием улицы. Потом начнутся будни. По утрам он будет уходить на работу, она хлопотать по дому. Вечером на стол поставят самовар, они соберутся вокруг него — сначала вдвоем, а затем, когда подрастет первенец, втроем… А окончится все этим могильным надгробьем…
Защемило где-то внутри. Стало тоскливо. Я искренне горевал о незнакомых мне людях, которых видел такими красивыми, счастливыми, я тосковал по себе, потому что придет день, и я тоже умру, а кругом будет жизнь, плохая ли, хорошая, но жизнь. И никто не вспомнит обо мне, ходившем по этим же улицам, смотревшего на это же солнце… Но горше этой мысли была другая: для чего всё, если такая красота, как у девушки с фотографии, превращается в прах, в ничто! И чем дольше я стоял, тем более был уверен: двое с фотографии смотрели на меня и что-то хотели сказать. Но что? И вообще, мистика какая-то, — я резко повернулся и пошёл от могилы прочь. Но на самом выходе, когда перед глазами встали огромные дома. Остановился, затем бросил рюкзак — и вернулся. Мне никогда не быть здесь больше, так хоть постараюсь запечатлеть этот женский взгляд из прошлого…
… С тех пор я часто бывал в Туле, но на кладбище то не ходил, боялся. Вдруг тупой и безжалостный каток превратил его сначала в строительную площадку, чтобы потом на этом месте могла вырасти очередная многоэтажка. Но лицо, глаза той женщины всегда со мной, они живут во мне. Тогда, на кладбище старая фотография помогла мне ощутить всю зыбкость этого мира. Но только спустя годы я смог понять, о чем эти двое с фотографии хотели мне сказать. Но это уже моя тайна.
А мудрые афоризмы я с тех пор не записываю. И лишь изредка, когда сумятица дел опутывает меня с ног до головы, я сажусь в кресло, закрываю глаза и предо мною встаёт прекрасное женское лицо с той фотографии. Несколько мгновений достаточно, чтобы вся паутина, опутывавшая меня, исчезла напрочь. Я дремлю и уже не понимаю, — то ли ветер гудит за окном, то ли он колышет старый вяз над далёкой могилой.
* * * Матушка вернулась к вечеру. Увидев сидящего возле ворот писателя, ласкавшего главную местную кошку Муську, она улыбнулась. Но глаза у нее были грустные. Это заметил и писатель.
— Добрый вечер, матушка. Как доехали?