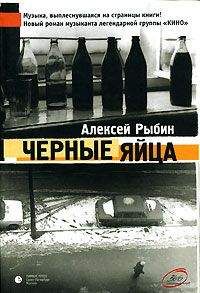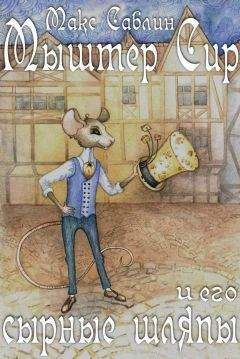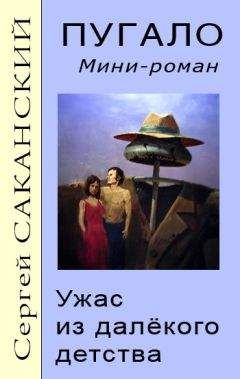Александр Шаров - Маленькие становятся большими (Друзья мои коммунары)
— Я предлагаю Алексея Лыня, — раздается тонкий голосок.
Это не почудилось, это сказала Лида. Видно, когда очень сильно желаешь чего-либо, желание, как кукушка в чужие гнезда, проникает в чужие головы.
Председатель зачитывает весь список. Последним он называет меня.
А потом начинаются самоотводы. Вначале говорит Аршанница округлыми, важными фразами: он очень перегружен… Он не может взвалить на плечи эту новую ответственность… Он член исполкома, староста артели и уже избран в три комиссии… И Ласька тоже перегружен и тоже не может взвалить на свои плечи… И Фунтик, и Вовка Васильницкий…
Так один за другим выступают все кандидаты. Наконец председатель спрашивает, нет ли самоотвода у меня.
Я поднимаюсь, бледный от волнения. Мне хочется сказать: «Вот увидите, как я буду работать: честно и хорошо». Но вместо этого, сам не зная зачем, я повторяю все, что говорили до меня.
Меня слушают равнодушно, и собрание единогласно признает самоотвод уважительным. А я понимаю одно: «Я сам уничтожил свое счастье». Зачем я это сделал?
А в клук избираются другие. Когда собрание кончается, я, опередив членов комиссии, забираюсь на чердак и прячусь в шкафу, где можно задохнуться от пыли. Я слышу, как кто-то говорит, что надо бы перетащить рояль вниз и найти настройщика. А остальные тяжело вздыхают, потому что рояль очень тяжелый.
Потом чердак пустеет. Я вылезаю из шкафа и вижу пятна от пальцев, черные блестящие пятна на запыленной крышке. Вижу, как мышь бежит по толстой басовой струне.
Сейчас уже вечер. Сейчас я бы позвал Лобана и Мотьку, и мы снесли бы рояль вниз. Пришел бы настройщик, и мы бы с ним пробовали одну клавишу за другой. Работали бы всю ночь, чтобы завтра совершенно неожиданно зазвучала музыка.
Но этого не будет, потому что я сам уничтожил свою мечту. Мышь снова вскакивает на толстую струну и смотрит на меня с удивлением и состраданием.
НОВИЧОК
Мы трое — Новичок, Глебушка и я — дежурим по бараку и пришли наломать веток для веников, а Пастоленко с Колей Трубицыным, который второй день гостит в коммуне, забрались сюда, к лесному озеру, с самого утра.
Берег тут обрывистый, и над водой нависают корни.
Трубицын сидит в расстегнутой курсантской шинели, опершись ногой о корень, перебирает единственную уцелевшую струну гитары и поет, вернее — говорит в такт тренькающей струне:
Была тельняшка у меня
И верных пять друзей.
Я ту тельняшку разорвал,
На ровных шесть частей…
Вжжик, вжжик! — водит Пастоленко точильным бруском по зубцам затупившейся пилы, иногда опуская брусок и прислушиваясь. Песни у Коли свои, странные, не совсем понятные и всегда о море, о матросской службе, хотя Коля никогда не ходил в плавание и в матросский отряд попал случайно.
И этот лоскуток меня
В огне спасает от огня… —
тихо напевает Коля.
Скоро полдень, солнце висит между вершинами деревьев, над головой, а от леса тянет холодом. Юркая лягушка давно пытается пробраться к воде — весна, и ей пора метать икру, — но в испуге отскакивает всякий раз, когда взвизгивает точильный брусок. Она сидит поодаль, неподвижно глядя выпуклыми глазами. Мы с Глебом наблюдаем за ней, а Новичок бродит по кустарнику, и время от времени из лесу слышится треск веток.
Вода в просветах, чистых от ряски, кажется сейчас особенно черной и глубокой; белые слоистые облака проплывают по ней. Мне вспоминается, как давным-давно, в Бродицах, Ласька рассказывал, будто в Земле, как в глобусе, есть дырка для оси; можно даже отыскать это отверстие.
И я представляю себе, что белые тени на воде — не отражение, а настоящие облака и плывут они бесконечно далеко, на той стороне земли.
— На той стороне… — повторяет Глебушка, свесив голову и вглядываясь в поверхность озера.
Когда-то самыми маленькими в коммуне были я и Фунтик, а теперь Глеб. Его и Юру Коптелова приняли в один день, за три месяца до нашего отъезда в Успенское, но Юру почему-то до сих пор зовут безымянной кличкой Новичок, а к Глебу привыкли с первого дня. Он слабый, но старательный, любит слушать и всему верит, а главное — гордится нашей коммуной и тем, что он коммунар.
И этот лоскуток меня
В огне спасает от огня,
В бою от пули сбережет
И руку смерти отведет, —
певучим своим голосом рассказывает Коля.
— Бывает, чтобы не хотелось есть? — вдруг спрашивает Глеб.
Мы молчим.
— А як же, — отзывается Пастоленко.
— Совсем, совсем — дадут хлеб, а ты не возьмешь? — отрицательно качая головой, переспрашивает Глебушка и недоверчиво улыбается, таким странным кажется ему это.
Лягушка, улучив момент, в три прыжка достигла берега и плюхнулась в воду. Больше она не показывается.
— Сумнуешь? — спрашивает Пастоленко, поворачиваясь к Коле Трубицыну и проводя ладонью по блестящему полотну пилы.
— Ребята Антонова громят, а меня учиться оставили, — не сразу отзывается Коля. — Зачем? Пока выучишься, последним белякам конец!
— Так! — соглашается Пастоленко.
Новичок выбирается из кустарника и кладет на землю охапку веток.
Это высокий мальчик в черной, аккуратно сшитой куртке с карманом на груди, из которого выглядывает расческа, с тонкими губами и полным, красивым, но всегда недовольным лицом.
От веток потянуло сильным ароматом, заглушающим запахи озерной тины.
— Што ж вы, хлопцы, робите?.. Черемуху на веники обломали, — укоряет Пастоленко, принюхиваясь длинным носом.
— Твой, что ли, лес? — бормочет Новичок. — Подумаешь, черемуху пожалел! Истопник — и думай о дровах!
И если трудно будет мне —
Кругом враги, душа в огне… —
Коля отбрасывает гитару и поднимается.
— А кто такой — истопник? — спрашивает Трубицын. — Пролетарий он. А о чем должен думать пролетарский класс?
Коля ждет ответа, застегнув шинель и в упор глядя на Новичка. Не дождавшись, сам себе отвечает:
— О мировой революции! Понимаешь, малый?..
Веники связаны, и мы возвращаемся к бараку. С опушки видно все Успенское: синяя излучина реки с песчаным островком на стрежне; лес, темно-зеленый ближе к нам и почти черный у воды, двумя крылами спускается по пологому склону к берегу. Впереди — черный прямоугольник только что вскопанного огорода, полуразрушенный барский дом с белыми колоннами, а у опушки разбросаны бараки; ближний — наш, в зарослях сирени — барак девочек, и над рекой — старших коммунаров.
На огороде сгибаются и выпрямляются маленькие фигурки: сажают рассаду. У дома бесцветным пламенем горит костер; печи разрушены, и обед пока готовят на дворе. От реки поднимается паренек с коромыслом через плечо. Иногда луч солнца падает на ведра, и они вспыхивают так, что кажется, будто солнечный зайчик скользит по зеленому склону снизу вверх.
Интересно отсюда, с вышины, угадывать ребят. Это не Вовка ли Васильницкий тащит воду? Или Мотька? А это, конечно, Лидка Быковская, маленькая, круглая, с развевающимися косами, не бежит, а катится к огороду. А вот прошел, высоко поднимая ноги, длинный Аршанница. Только дежурный может шагать с такой важностью.
Из леса доносятся Колин голос и звуки гитары, но слова разобрать невозможно.
— Глупая песня! — небрежно цедит Новичок. — Зачем это тельняшку рвать? Выдумал…
— Разве бывают песни глупые? — спрашивает Глеб.
— А огольцы дурее дурака бывают? — обрезал Новичок. — Всё выдумывают. И почему «коммуна»? Это была Парижская Коммуна…
…Мы с Глебом подметаем, а Новичок поправляет постели, чтобы не оставалось складок на одеялах, чемоданы и корзинки — у кого они есть — не высовывались из-под коек, а полотенца были сложены треугольником, по-красноармейски, как показывал Николай.
На полу разбросаны ветки черемухи с еще не распустившимися цветочными почками. Уборка закончена, и мы последний раз оглядываем сделанное. Кажется, все как надо, только на койке Новичка, нарушая порядок, лежит коричневый чемодан с блестящим медным замком.
— Убери! — говорю я.
Новичок пожимает плечами.
— Убери, тебе сказано!
Входит Аршанница, и чемоданчик остается на одеяле: теперь не до спора. Этот длинный, выше всех, коммунар с худым лицом и запавшими, очень яркими голубыми глазами считается самым требовательным дежурным. Но сегодня он торопясь, не глядя проходит по бараку и, уходя, строго приказывает:
— Глеб, один будешь дневалить! Юрка, картошку чистить; «распределение» зашивается. Алексей, на огород! Живей, ребята!
Я возвращаюсь часа через три голодный и усталый. В бараке по-прежнему никого, кроме Глеба. Обхватив руками колени, он не отрываясь смотрит на койку Новичка. Глеб так увлечен зрелищем чего-то мне от дверей невидимого, что даже не оглядывается, когда я вхожу.