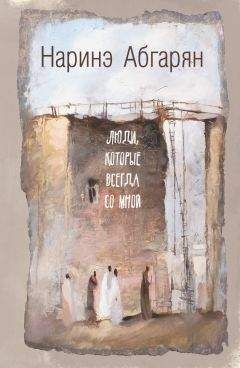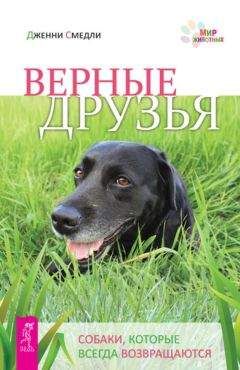Владимир Добряков - Строчка до Луны и обратно
Дед все это говорил, тихо расхаживая по комнате, вздыхая, и не говорил даже, а словно читал стихотворение какое-то. Никогда я раньше не видел его таким. Подшутить, посмеяться, забавную историю рассказать — вот каким привык видеть его. А сейчас… Что с ним сделалось?
Дед умолк, а я не знал, что и сказать. Спросить — говорил ли он с Кирой обо мне, после всех его задумчивых и неторопливых слов показалось неудобным.
За обедом дед все-таки рассказал мне, как познакомился с матерью Киры, с сестрой Риммой из северного города Норильска. Рассказывал он без обычных шуток, и от него я услышал много такого, о чем и не знал совсем. Мать Киры не работает, инвалидную группу врачи ей назначили. Сказал, что она очень хорошая и душевная женщина, а вот с мужем неважно они живут, потому что он крепко попивает.
— Видишь, — сказал дед, — невеселые дела какие. А подумай: каково Кире приходится? Ее, Киру, внук мой хороший, забижать никак невозможно. Грех это.
— Она жаловалась, да? — спросил я.
— А зачем было ей жаловаться? Про тебя, мой хороший, ни словечка я не услышал. Как и нет тебя. Будто карандашиком вычеркнула. Потому и сказал я, что плохие твои дела.
— А ты, — спросил я, — тоже ничего не говорил?
— И я про тебя молчал. Чего ж говорить? Вам самим разбираться надо. Если не поздно.
Вечером я долго не мог уснуть. Что же получается? Кира от меня отказалась, карандашиком вычеркнула. С Таней теперь дружить? Почему бы и нет? Самая красивая девчонка двора. Точно, все ребята будут завидовать. А Кира… Так не хочет ведь. И не надо! Но чтобы окончательно уверить себя в том, что действительно «не надо», что на Киру мне начихать, я должен был на нее обидеться или хотя бы разозлиться. Должен был, а не мог.
Наверно, и дальше продолжал бы я мучиться, ничего не в состоянии решить. И день бы так прошел, и другой, и третий. Не знаю, сколько бы их прошло. И еще обнаружил бы я в Наташином ведерке конфеты и записку с обращением к «свободному гражданину». И отправился бы с красивой Таней сначала в универмаг за голубой тесьмой, а потом, может, и в кино. И ловил бы завистливые взгляды ребят. Так все и было бы, но…
— Петруха, хочешь расскажу, как я женился?
Это дед сказал мне утром, когда мы расположились за столом завтракать. Сказал своим обычным голосом, и мне сразу как-то легче стало.
Дед намазал хлеб паштетом, откусил, вынул крошку из бороды.
— Нет, поедим сначала. Это серьезный разговор.
— А чего глаза смешные были?
— Так она жизнь такая. Что арбуз полосатый. И горько, и смешно. Все рядышком, вперемежку.
Поел дед, усы и бороду полотенцем вытер.
— Я тебе сказывал, что был я парень молодец-удалец. И нраву веселого. Да и ласковое слово в кармане не прятал, за что девки и любили меня и погулять со мной за большую честь почитали. И сколько ходить бы мне в женихах — того я не знаю, да вот на двадцать третьем году пересеклись наши дорожки с Глашей. Не скажу, чтоб лицом она была краше других, только стал я к тому времени уже понимать, что красота — не главный у девки козырь. Красота, говорят, до венца. А вот как потом жить — не тужить, горя не знать и нраву веселого не лишиться? Вижу: вроде получается у нас песня. Свидимся с вечера, а расстаться никак не можем. Хоть утро встречай на бревнышке. И все больше разговоры промеж нас, шутки. Я говорун, а и Глаша не молчунья. Хотя и слушать умела. Большая мастерица была слушать. Просит бывало: «Расскажи, Проша, еще чего. Слушать больно тебя интересно». А я говорю: «Теперь ты рассказывай». — «Нет, говорит, лучше ты. А я послухаю». И смеется: «Знаешь, говорит, почему рот у человека один, а уха два? Чтоб услышать больше».
И всякий раз сидели бы мы до утра, все говорили бы и прощались, да больно уж строгий был у нее отец. Откроет окошко и кричит: «Глашка! Сколь повторять? Иди домой!» А потом и вовсе не велел выходить ей ко мне. Из богатых он был, до революции лавку имел. А я что — веселый да голый. Одни руки. Видишь, положение какое! Глаша со всей душой ко мне, и я без нее не могу, так отец — стеной промеж нас. Я Глаше толкую: раз отца не переиначить, то один выход — идти поперек его, отцовой, воли. Не прежнее, говорю, время, чтоб во всем исполнять волю родителей. Сами хозяева. В ту пору уже про колхозы толки-разговоры шли. Не пропадем, говорю: четыре руки, две головы, да любовь-душа посередке. Она слушает, кивает, но пуще всего отца страшится. Отец-то, когда увидел, что не по его выходит, вконец освирепел. «Кнутом, кричит, забью! На порог родного дома не ступишь!» Видишь, зверюга какой! Даром что новой власти уже боле десяти годов было.
Ну, что тут делать? Никак не решается Глаша поперек отца идти. Слезьми обливается. «Видно, не судьба, говорит, Проша. Отступись от меня». И что ж, Петруха, удумал я?
Дед посмотрел на меня весело. Стукнул кулаком по столу.
— Ах так, — говорю я своей Глаше, — не плачь тогда обо мне, не лей горючи слезы, прощевай, говорю, дорогая-любимая, а жизни мне без тебя все равно нету. — Забежал я в церковь да скорей по лесенке — на самый верх. Схватился рукой за колокол, на самый краешек встал и кричу: — Прощавай, Глашенька!
— Прыгнул? — со страхом спросил я.
Дед посмотрел на меня хитрым глазом:
— А как бы я, внук золотой, сейчас говорил с тобой? Да и на свете не было бы тебя… Услышала Глаша, обмерла, руки вверх вскинула. «Прошенька! — кричит. Пожалей меня!» И сама на траву повалилась.
— А что потом?
— Так и вышел мой верх. Поженились.
Мне рассказ его здорово понравился. Вот это дед у меня! У кого еще такой есть!
— Ну, а дальше? — говорю я деду.
— А дальше история долгая. Прожили мы с Глашей сорок шесть годов, за вычетом двух лет и двух месяцев — это как по причине сильной контузии головы и нахождения в правом боку осколка немецкой мины признали меня негодным к продолжению сражений с немецкими гадами. Из армии списали, ну, а старухе моей, на ее великую радость, даже и в таком сильно поврежденном виде вполне я сгодился. Только в ту пору была Глаша, ясное дело, не старуха, а очень даже завлекательная и душевная женщина она была. Так и жили. В чины я, правда, не выбился — конюхом был, ездовым, а после до нонешнего времени пастухом состоял, но Глаша, врать не стану, в обиде на меня не была и словом никогда не попрекнула. И прожили мы с ней эти сорок с лишним годов, как один день. В мире, в согласии, а уж говорить-говорили и все никак наговориться не могли. Я тебе, внук золотой, так скажу: если бы все слова, что мы с Глашей друг дружке сказали, написать бы в одну строчку, то протянулась бы эта строчка до самой твоей луны, кругом нее обвилась три раза и опять бы вернулась на ту же нашу землю.
— Ого-го, строчка! — сказал я. — Миллион километров, наверно! И все языком!
— Не языком, Петруша, а сердцем. С любимым другом сердце говорит. А язык только помогает. Тут уж его не остановишь. Губы да зубы — два запора у языка, да и те не удержат.
— Дед, — я улыбнулся, — а ты сколько сейчас наговорил? Километр будет?
— Да кто ж его знает, может, и будет.
— А ты сердцем говорил?
— Сердцем, Петруша, — сказал дед. — Думаешь, не болит за тебя сердце? Болит. Ехал сюда и знать не знал о твоих заботах. А тут, видишь, дела какие сурьезные. Сколько ниток напутано. Попробуй найди конец… Ладно, мой хороший, посуду пока уберем. Я мыть стану, а ты на полку складывай.
Прибрали мы на кухне, я и веником на полу еще подмел. Ведро было полное. Я пошел на лестницу, к мусоропроводу.
Иду, а сам все думаю про то, о чем дед рассказывал. Особенно как с колокольни чуть не сиганул. Это, значит, по-настоящему любил. Не то что я. Мне даже обидно стало за себя.
— Дед, — вернувшись с пустым ведром, спросил я, — а Кира ничего-ничего про меня не сказала?
— Не сказала, Петруша. Только ведь, знаешь, какое тут дело — посмотреть надо, отчего не сказала. Я так понимаю, что от боли. От сердца. Сердце в горе молчит, в радости говорит.
— Дед, а будет она со мной разговаривать?
— Того не знаю. Попробуй.
Попробовать? А что, если и правда попробовать? Конечно! Что же мне дед сразу не сказал? Все про сердце да про сердце…
Я вышел на солнечный балкон. Далекая вертушка на белой палочке быстро крутилась. От легкого ветерка работал пропеллер и на моем балконе. Это мне придало уверенности. Я отыскал в ящике круглое зеркальце и сказал деду:
— Я пошел.
Наверно, по моему лицу он понял, что я собираюсь делать.
— Иди, Петруша. Хорошо поискать — в любом мотке конец сыщется…
Я уселся на доске песочницы и, достав из кармана зеркальце, навел светлый круг на балкон Киры. Если она в комнате, то должна увидеть. На потолке будет свет.
Все правильно я подумал. Через несколько секунд на балконе появилась Кира. Я помахал рукой. Она постояла, постояла и ушла. А теперь я не понял, что бы это значило? Выйдет? Но в ответ она не помахала. Или не хочет разговаривать?