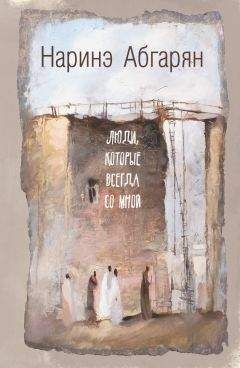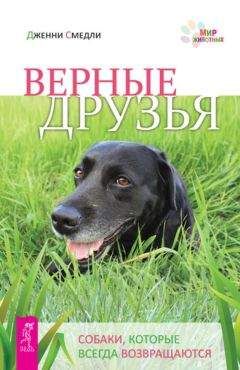Владимир Добряков - Строчка до Луны и обратно
— Ладно, вдохновляйся. Может, настоящую карикатуру нарисуешь. Не буду мешать.
Он ушел. Еще с полчаса миновало, а Кира все никак не появлялась в подъезде. И на балконе я не видел ее.
Вышла Кира, когда солнце сместилось за длинный карниз крыши, и вся огромная, со множеством окон и балконов стена дома в какие-то две-три минуты поблекла, сделалась серой. Остановившись на ступеньке крыльца и будто не зная, что делать дальше, Кира исподлобья взглянула на меня. И как только я поднялся навстречу, она быстро зашагала к песочнице.
— Я не ошиблась: ты меня ждешь? — глухим голосом спросила она.
— Тебя. С утра сижу.
— Я видела.
— Не хотела подходить?
— Не хотела, — подтвердила она и сжала губы.
Я попытался хоть немного смягчить ее шуткой:
— Если бы ты не вышла, я бы все равно сидел. До вечера. Потом до утра. И опять до вечера. Превратился бы наконец в учебное пособие под названием: «Человеческий скелет».
Никакого намека на улыбку. Серые глаза ее оставались холодными. Чужие и какие-то не знакомые мне глаза.
— Зачем я тебе понадобилась?
— Хотел поговорить.
— О чем? — пожала плечами Кира. — Все уже ясно.
— Ну что тебе ясно?
— Не надо, Петя, — сказала она грустно. — И вообще, я скоро уеду в лагерь.
— Но ты же говорила…
— Теперь сестра приехала. Помогает по хозяйству. И если мне достанут путевку… — Кира замолчала, чуть отвернулась, и губы ее дрогнули. — Я должна уехать.
— А как же я?
— Ты разве будешь скучать? — не глядя на меня, сказала Кира. — Нет, не будешь скучать. Я пошла. До свидания.
Она не пошла. Она побежала к подъезду. Четыре-пять секунд, и скрылась в дверях.
Мне было скверно. Два дня не выходил на улицу. И чего раньше со мной никогда не бывало — пропал аппетит. Ем котлету, а вкуса будто не чувствую. Мама забеспокоилась: не заболел ли я? А вот отец многозначительно сказал:
— Сын, а твоя хандра и скучный взор потускневших глаз — не результат ли вселения новых жильцов в квартиру на пятом этаже?
— Алексей! — строго взглянула мама на отца. — Ты все-таки думай, когда говоришь.
— Зинуля, и я был в его прекрасном возрасте и, представь, тоже худел и терял аппетит. И как раз по аналогичным причинам.
Эх, что они знали, мои родители! Вот так — шутки-прибаутки, а чтобы хоть раз сесть со мной и обо всем, обо всем поговорить, послушать меня, понять — такого не помню. А бывали минуты, когда так хотелось кому-то все рассказать, как это говорится, раскрыть душу.
Ясно, что и в этот раз никакого разговора не получилось. Мама все-таки разыскала какое-то лекарство в пузырьке, пипеткой накапала в рюмку двадцать капель. Спорить не стал, выпил. Пусть успокоится. А отец, довольный своим тонким замечанием, развернул газету — посмотреть программу телепередач.
Не знаю, как бы я себя чувствовал на следующий день и какое после тех капель было бы у меня настроение, но утром у дверей раздался звонок, и высокая девушка в круглых голубых очках подала мне телеграмму. Я расписался, развернул листок, и короткая, наклеенная строчка привела меня в такое бодрое состояние духа, словно я не двадцать жалких капель маминого лекарства выпил, а весь тот пузырек осушил.
«Встречайте субботу вагон шестой Дед».
А суббота — завтра! Поезд приходит утром.
Встречать деда поехали всей семьей. Даже Наташку пришлось взять. Хотя чего говорю «пришлось»! Да она из-за того, что приезжает дедушка, в детский сад отказалась идти. Такой рев устроила — мама скорей успокаивать: «Хорошо, доченька, хорошо, и ты пойдешь встречать».
Дед вышел из вагона и принялся всех нас по очереди целовать. И Наташка обхватила его шею.
— Он, ой! — запищала она. — Колючий! Борода какая смешная!
А деду лучше не надо — еще сильней посмешить внучку:
— Так она заместо веника у меня. Как мусору по углам соберется, так бородой и мету.
И меня смех разобрал, представил, как дед выметает бородой сор из углов. А Наташка и вовсе зашлась хохотом. Дед сказал маме:
— Уйми ты ее. Штанишки как бы сушить не пришлось.
Ну дед! Все такой же! И с виду ничуть не изменился. Может, волосы побелей стали.
Наташка благополучно отсмеялась и на чемодан показывает:
— Кнут там лежит?
— Ах, ты! — Дед хлопнул себя по лбу. — Надо же! Вот голова дырявая, сквозняком выдувает! Гостинцы везу, а кнут забыл!
На площади перед вокзалом отец взял такси, мы начали было рассаживаться, но шофер сказал:
— Перебор, граждане, получается. Четвертых положено брать. Вас пятеро.
— Это кого ж ты, милок, за пятого считаешь? — спросил дед и привлек к себе Наташку. — Птаху, что ль, эту? Да я в карман ее посажу — еще и места останется.
— Ну, папаша, — усмехнулся шофер, — в дороге нам скучно не будет. Садитесь!
Район, которым мы ехали к нашему дому, был совсем новый, и он еще продолжал расти. То здесь, то там глядели в небо подъемные краны с длинными стрелами, тянулись строительные заборы, дома стояли высокие — в девять этажей, в двенадцать, а два дома встретились такие, что дед, принявшийся считать этажи, лишь махнул рукой.
— Тут без среднего образования делать нечего. Не сосчитаешь. Ай, надо же, городище какой махнули! Домов-то, домов! А все обижаются — жить негде.
Дед шумно восхищался городом, а я сидел и радовался, меня прямо гордость распирала, будто это я сам строил наш красивый и просторный город. Видно, и Наташка, тесно прижатая к боку деда, радовалась. Она держала руку деда и то на бороду его смотрела, то в окошко на высокие дома.
— Дедушка, а наш дом самый большой! — похвастала она.
Приехали наконец и к «самому большому», как сказала Наташка. Дед, когда еще мимо шести подъездов ехали, только головой покачивал. А выйдя из машины, огляделся в обе стороны и сказал мне:
— Все ты верно описал, Петруха. А я-то грешил на тебя — ну, думаю, приврал барон. Не приврал. А окошков-то! Ой, что соты пчелиные. И куда же теперь? В какую дырку нырять?
Я взял тяжелый чемодан деда и сказал с достоинством:
— Не дырка, а седьмой подъезд.
Квартиру дед осматривал дотошно. Все комнаты обошел, все двери пооткрывал. Больше всего кухня ему понравилась. У раковины с кранами горячей и холодной воды целую минуту стоял, воду поочередно открывал, пальцем пробовал, языком прищелкивал.
— Надо же, какую цивилизацию в народ двинули!
— А посмотри плиту! Посмотри! — Я особенно на плиту напирал. Вчера сам ее вычистил, ножом скоблил, тряпкой с содой оттирал.
Дед и плиту удостоил вниманием. Посчитал конфорки:
— Раз, два, три, четыре. Райская жизнь!
Осмотрев все, дед вздохнул и сказал:
— Плохо.
— Да что ж тебе не понравилось? — в недоумении спросила мама. И я глаза вытаращил на деда: хвалил, хвалил…
— А как соберешься помирать — что делать? Жалко такие-то хоромы оставлять.
Отец, достав вино в красном графине, засмеялся:
— Есть, Прокофий Сергеич, из этого трудного положения выход — отложить дело с помиранием на неопределенный срок. Давайте-ка, по рюмочке — за ваше здоровье и по случаю прибытия!
Дед рюмочку выпил, обтер ладонью усы, сказал:
— Благодарствую, Алексей Семеныч, — и раскрыл свой чемодан с гостинцами.
Вот почему показался мне чемодан тяжелым — дед извлек из него две большие банки. Одна с вареньем была, в другой — желтел мед.
— Липовый, — сказал он. — Самый наиполезный.
Потом на стол темной горкой легли пахучие низки сушеных белых грибов. А еще каждому из нас старшая мамина сестра тетя Даша прислала в подарок по паре вязаных толстых носков.
Обнову Наташа сразу же, конечно, натянула на ноги.
— Деда, они кусаются.
— В том и самое здоровье, внучка, — сказал дед. — Это тебе не химия, не капрон. Самая наипервейшая шерсть. А что колется — хорошо, кровка в жилках будет резвей играть в тебе.
Даже мне захотелось надеть новые, кусачие носки.
После обеда мама велела деду отдохнуть с дороги, а потом они поедут в универмаг.
— Это по какой такой надобности стану я по магазинам шастать? — заартачился дед.
— Ладно, сама знаю! — решительно сказала мама. — Отдыхай пока, и пойдем…
Вернулись они с двумя свертками и коробкой.
— Алексей, — с порога сказал дед, — ты женку свою построже держи! Гляди, денег размотала! Костюм — восемьдесят шесть целковых. Туфли, рубаха. Жениха из меня делать вздумала! Поздно. Отжениховался.
Смеясь, мама заставила деда переодеться в новое.
Дед вышел из другой комнаты в сером костюме, в желтых туфлях, рубашка в тонкую полоску. Посмотрел на себя в зеркало, огладил бороду:
— А и то — хоть к венцу молодцу!
Сказал, и как-то сразу поник, пригорюнился.
— Что такое? — спросила мама.