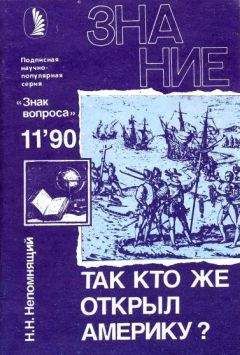Борис Алмазов - Посмотрите - я расту
Тётя Паша взяла его тарелку и скрылась на кухне.
— Я поражаюсь! — сказала Алевтина дяде Коле. — Она так спокойно говорит с фашистом. Да, может, он её сынов убил, а она с ним разговаривает!
Дядя Коля посмотрел на Алевтину, прищурясь от табачного дыма.
— Тебе сколь лет? — спросил он.
— Какое это имеет значение! — вспыхнула пионервожатая.
— Вот такое! Ты сначала роди двух сыновей, вырасти да получи на них похоронки, а опосля суди… Мала ещё судить!
— Так, может, он её сынов…
— А может, и нет! — резко оборвал дядя Коля. — Это они когда на нас силой пёрли, дак тогда разбирать было некогда: бей врага, и все дела! Чем больше, тем лучше. Все одинаковые — все враги. А теперь они все разные. Русский лежачего не бьёт! Эй, — сказал он немцу. — Как тебя, Александр, что ли?
— Я! — Немец поднялся.
— Да ты сиди! На каком фронте воевал?
— Найн! — замотал головой немец. — Яне на фронт. Я строител. Автобан. Дорога! Инженер.
— Видал! — сказал дядя Коля. — А звание какое?
— Гауптман… — потупясь ответил немец. — Капитан.
— Что вы мне хотите объяснить? Что он не виноват? — заговорила Алевтина. — Не был на фронте? Дороги строил? По этим дорогам танки шли, между прочим, дороги строили русские пленные. А их потом тысячами расстреливали!
Немец побледнел, он хотел что-то сказать, но, наверное, слов ему не хватало, он только прижимал руки к груди и беспомощно переводил глаза то на конюха, то на пионервожатую.
— Вы их оправдываете! Они ваш дом сожгли. Половину жителей убили. Вас самого изувечили…
— «Оправдываю»! — усмехнулся конюх. — Ты, девонька, наговоришь! «Оправдываю»… Чего было — не забыть, а только злобой много не наживёшь. Злоба злобу родит! Потому Россия и стоит, что мы в себе злобу задавить умеем. — Он загасил окурок. — Нынче бой окончен, теперь и разобраться можно, кто на нашу страну с мечом, как говорится, шёл, кого вели, кого гнали, а кто и не шёл… Ты видала у них агитатора? Вон безрукий-то. Всё им газетки читает. Так он руку-то ещё в Испании потерял. С тридцать восьмого года в подполье. Что в тюрьмах да в лагерях пересидел — это не перескажешь… Вот тебе и немец! Ведь у них не только Гитлер был, у них и Тельман был, и этот, как его, Карл Либкнехт… Не все немцы — Фрицы, этот, вот видишь, Александр…
— На! — сказала тётя Паша, ставя перед немцем ещё одну порцию каши. — Ешь. Наломался небось с топором-то, и где только научился? Инженер ведь!
Алевтина ещё спорила с дядей Колей. А я ушёл со двора и стал бродить вдоль лагерного забора, подальше от всех, потому что голова моя распухла от мыслей. В ней словно гудели, метались и сталкивались разные слова. «Немец — и вдруг Александр! Капитан — и вдруг строитель!»
Но самое странное: когда он заговорил о том, что у него погибла жена и дети, мне стало его жалко.
Глава двенадцатая
ДА ПУСТЬ ХОТЬ ЧТО ГОВОРЯТ!
Утром на линейке начальник лагеря, сердито блестя очками в тонкой оправе, сказал, что пионерский лагерь переходит как бы на военное положение.
— В связи с участившимися случаями нарушения дисциплины и режима, — голос у него был скрипучий и скучный, — организуются патрули из старших отрядов… Всякий, кто нарушит…
«Наверное, жеребёнок уже родился, — думал я. — Интересно, какой он? Чёрненький? Рыженький?» И ноги мои были готовы сорваться с места и припустить к конюшне. Иногда я ловил на себе тревожные взгляды Ирины-Мальвины.
— У нас уже есть злостные нарушители! — гудел начальник лагеря. — Ну-ка, пусть выйдут на всеобщее обозрение.
Он начал называть фамилии, и нарушители стали выходить из строя. Одни стояли опустив голову, другие, наоборот, улыбались и строили рожи.
— Хрусталёв!
Я шагнул вперёд. Всего неделю назад я точно так же стоял перед строем и умирал со стыда, а сейчас мне было совершенно не стыдно и даже смешно. На затылке у начальника лагеря торчал вихор, и ветер качал его, как травинку.
— Не было дня, когда бы он не нарушал дисциплину, — говорил начальник. — Ходил на минные поля! Ежедневно бегает в деревню за четыре километра!
И вдруг раздались аплодисменты. Я оглянулся — Ирина-Мальвина, вся красная от волнения, хлопала в ладоши. А за ней начали хлопать и другие ребята. Один из нарушителей, рыжий и конопатый, начал раскланиваться и приседать, как балерина.
— Прекратите балаган! — закричал начальник. — В общем, это последнее предупреждение. Все указанные лица — кандидаты на исключение из лагеря.
— Боря! — сказала Ирина после линейки. — Ну ты хоть один денёчек не убегай! Ты слышишь, что говорят, тебя могут из лагеря исключить!
— Да пусть хоть что говорят! Меня ещё и не поймают!
— Ой, что ты! Поймают! Все мальчишки из старших отрядов дежурят. Вон по двое вдоль забора ходят.
— Что я, дурак, через забор лезть?
— Всё равно убежишь?
— Убегу! А что мне тут делать? С Липой головастиков ловить или в футбол гонять, чтобы Серёга мною командовал… А сегодня у Рыжки жеребёнок родиться должен.
— Ну, тогда я с тобой пойду, — решительно сказала Ирина. Я сначала хотел сказать, что, мол, только мне тебя не хватало. Но почему-то но сказал… Вообще, Ирина хорошая девчонка. Вот была бы она мальчишкой, так можно бы было с ней дружить.
— Ладно! — сказал я. — Только потом не жалуйся.
— Ты что! — Глаза у неё и так-то большущие, а теперь вообще как два блюдца сделались.
— Патрули расставили, — засмеялся я. — А мы с тобой пойдём через кухню.
— Да! — сказала Ирина со страхом. — Там немец!
— Да он какой-то ненастоящий. И зовут-то его Александр… Не бойся.
Мы бежали вприпрыжку. Миновали лес, перешли вброд речку — я вёл Ирину своим ежедневным маршрутом. Но на лугу, где у меня была протоптана тропинка в густой траве, мы вдруг увидели множество женщин.
Они шли широкой цепью, ритмично взмахивая косами, и трава ровными волнами ложилась позади них. Мне бросилось в глаза, что среди косарей не было ни одного мужчины, и я вспомнил слова дяди Толи: «Было в деревне девяносто три мужика, а с войны пришло двое: я да Коля одноногий». И сейчас же я вспомнил Александра, и снова в душе моей поднялось недоброе чувство: это из-за него, из-за таких, как он, женщины должны заниматься мужским трудом, делать работу, которая им непосильна. Я смотрел в измученные суровые лица колхозниц, на их низко надвинутые белые платки, на потные худые спины в ситцевых кофточках, и мне было мучительно оттого, что я не могу им помочь.
Эти женщины напомнили мне мою маму: когда она по ночам низко наклоняется над учебниками, у неё такое же напряжённое суровое лицо.
Мальчишки, ровесники нашим ребятам из второго отряда, крякая и надсаживаясь, подавали вилами траву на возы. Ещё один мальчишка, закусив губу, носился на конных граблях, а девчонки, чуть больше Ирины, деловито сгребали сено в копны.
— Вот! — сказала Ирина. — Они работают, а мы в лагере прохлаждаемся!
— Берегись! — прокричал мальчишка и пролетел мимо, звеня колёсами разбитых граблей.
— Пойдём быстрее, — потянула за рукав меня Ирина. — Нехорошо стоять и смотреть, как люди работают. Прямо мне вот именно что совестно.
От конюшни раздавались звонкие удары. Дядя Толя, присел на корточки, набивал обод на колесо.
— Дядя Толя, — сказал я, — что вы делаете? Вам же нельзя!
— Я маленечко, маленечко, я осторожно, — задыхаясь, отвечал старик. — Телега, вишь, без колёс стоит. Колёса развалились… А счас каждая телега на вес золота. Я счас, я маленечко.
Я помог ему катить колесо, вставил чеку, обильно намазал ось дёгтем, как показывал мне старик.
— Ну вот, ну вот… — приговаривал он, садясь на завалинку и дыша открытым, как у рыбы, ртом. — Ну, слава богу, сделали… Теперь можно катить хоть до Москвы.
— Боря! — прошептала Ирина мне на ухо (а я, признаться, забыл про неё). — Где же жеребёночек?
— А! Жеребёнок-то? Народился! Народился! — услыхал её шёпот старик. — Подите — в последнем деннике с мамашей отдыхает.
Мы боязливо вошли в полумрак конюшни и прижали носы к щелям загородки. Рыжка звучно жевала сено, а в тёмном углу лежало какое-то существо.
— Вот он, — прошептала Ирина.
Комок вздрогнул и распрямился, как пружина. Вороной жеребёнок поднялся на тоненьких соломинках-ножках и начал тыкаться лобастой головкой в бок матери — искать вымя.
— Какой хорошенький! — умилилась Ирина.
Рыжка насторожила уши и зло захрапела.
— Пойдём! — сказал я. — Не надо её волновать.
— Ага! — согласилась Ирина. — А то от волнения может молоко пропасть. Мама моя говорила, от волнения молоко пропадает. Только давай ещё посмотрим.
Мы ещё раз посмотрели на жеребёнка, который, причмокивая, тянул вымя и от удовольствия притоптывал копытцами.
— Ребятки! — позвал нас дядя Толя.