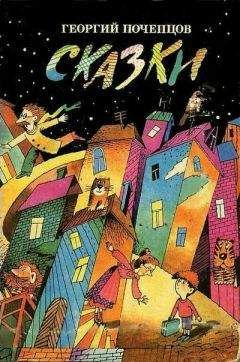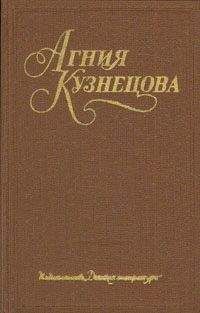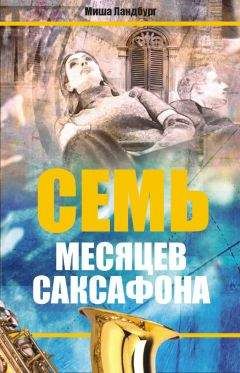Софья Могилевская - Повесть о кружевнице Насте и о великом русском актёре Фёдоре Волкове
...Как-то, уставшие после рабочего дня, все уселись на сцене. И здесь, как в горенке после репетиций, один из них предложил:
— Споём, братцы, что ли?
И запели.
И вдруг Фёдору Григорьевичу показалось — словно чего-то не хватает в их хоре. Нет той тонкой звуковой окраски, к которой привыкло ухо.
Вспомнил: где же Настя? Почему её не видно последнее время?
В сутолоке этих дней было не до неё. А вот сейчас как-то пусто... Привык он видеть её милое лицо, ясную улыбку, её весёлую готовность каждому помочь.
— Что это Насти нет? — опросил он, когда кончилась песня. — Может, не знает, где мы теперь сбираемся?
— Знает, — ответил Гаврила. — Намедни повстречал её. Спросил о том же. Говорит, сейчас никак вырваться не может.
— Да ведь какой с неё опрос, — прибавил Иконников. — Крепостная!
Волков задумался. И снова пришло на ум то, что знал давно: да, подневольная Настя, крепостная. Что хотят господа, то с ней и сделают. Их воля — не её...
Святки
На святках к Сухаревым понаехал полон дом гостей. Из дальнего поместья приехала сестра Никиты Петровича, Мария Петровна. Приехала в тяжёлой колымаге, лошади цугом. При Марии Петровне в колымаге муж, дети. А в кибитке — приживалки, няньки, мамки, две дворовые девки да баринов слуга.
Явилась из Углича и сватья Лизаветы Перфильев-ны — старая барыня Головина. Та привезла с собой пять кошек, и при каждой кошке по дворовой девке для ухода.
Стряпуха Варвара на людской кухне совсем с ног сбилась — легко ли накормить этакую ораву! Тут и своей-то дворни, слава богу, хватает, а с гостями сколько прибыло...
Готовка шла от зари до зари.
И на барской кухне тоже — готовить начинали с раннего утра, лишь к ночи еле управлялись.
Из деревень пришли обозы с морожеными гусями, утками, курами, индейками. С копчёной, вяленой и сушёной рыбой. Из кладовых то и дело выкатывали бочонками солонину и свинину. Вытаскивали кулями муку, крупу.
Обедать садилось человек до сорока. Обедали не меньше трёх часов. На обед подавали пять перемен, а сколько блюд в каждой перемене — и сосчитать трудно.
На святках в Ярославле так было почти в каждом помещичьем доме. Пиры шли за пирами. Вечерами маскарады, балы да ещё всякие другие увеселения.
Ярославцы хвалились: «У нас, как в Москве или в Санкт-Петербурге! Понимаем, как нужно время проводить...»
А Настя всё таскала и таскала воду. Для неё праздник был не праздник. Какое там! Сколько народу надо накормить, напоить, в бане помыть. И везде и всюду та водица, что таскает она с Волги.
Ввезёт во двор салазки с кадкой, перельёт воду в бочку, что стоит в сенях людской избы, или в другую, что при барской кухне, или в третью, что в бане, чуть переведёт дух — и снова по воду.
Насте в подмогу отрядили Груньку, скотницы Натальи дочку. Наталья слёзно просила: «Ты не замай мою Грунюшку, смотри, какая из себя хиленькая и годков ей мало»... У Насти — добрая душа. Пообещала беречь Груньку. Воду из проруби сама вытаскивала. Груне не давала. А Груня только салазки толкала, когда в гору тянули, да приглядывала, чтобы кадка с водой не свернулась набок.
А вода в проруби темна, холодна... Опустишь ведро, а его словно кто за дно ухватил и держит. Не похоже, чтоб в этой тёмной, студёной воде жила прекрасная царевна с глазами, как небесные звёзды. Небось на зиму уплыла далеко-далеко, в тёплые края. А сейчас подо льдом злые чудища подводные. Они и держат вёдра с водой, никак от них не вытянешь!
На седьмой день святок, как раз под Новый год, дед Архип поднялся с лежанки и сказал:
— Вы, девоньки, как проклятые... Вот уж истинно говорят: в чём кошке веселье, в том мышке слёзы. Сходите на ярмарку, погуляйте. Ныне я повожу за вас воду.
И дал Насте и Груне по копейке, чтобы купили себе чего-нибудь ради праздника. Или орехов, или стручков цареградских сладких, или сушёных груш, что ли...
Дед — он богатый! Ему за лапти иной раз копейку дадут, иной раз и полторы копейки за пару.
Дедову копейку Настя спрятала.
Как же, будет она сласти себе накупать! Не маленькая, обойдётся и без орехов... А вот люди говорят, будто за смотренье в новом театре на Никольской улице деньги придётся платить. За какие места по шести копеек будут брать, за какие — только одну копейку.
И Настя низко, в пояс, поклонилась деду:
— Спасибо, дедушка! Вечерком тебе рубаху постираю. Где надо и заплаты положу...
На праздничном гулянье
На площади возле гостиного двора уже с неделю стоят балаганы. Там и есть главное веселье. Туда и кинулись Настя с Груней.
Пришли — и сразу у обеих глаза разбежались. И то хочется поглядеть, и это. А глядеть и правда есть чего!
Тут и катальные горы стоят. И карусели крутятся. И мужик с учёным медведем разные фокусы показывает. А музыканты на чём только не играют — и на дудках, и на гуслях, и на домрах!
Балагуры надрываются, зазывают народ на представление:
Эй, люди добрые!
Молодцы хорошие.
Молодки пригожие!
Не гнушайтесь — заходите.
На потеху поглядите!
Оно и верно, что на масленице
Веселее, чем на страстной пятнице!
Однако же и на святках потеха,
Животы надорвёте от смеха...
— Ой, Настя! — шепчет Грунька, цепляясь за Настин рукав. Боязно ей в такой сутолоке от Насти отстать. — Давай в балаганы сходим? Чего там посмотрим?
Настя объясняет: как же они пойдут? Деньги платить надо за смотрение.
— Так у нас с тобой припасены копеечки, — не отстаёт Грунька. — Дед ведь дал...
— Моя копеечка — заветная! На одно дело отложенная...
А навстречу идёт пирожник. Горячие пироги тащит. И этот народ зазывает, кричит на всю площадь:
Эй, кому с пылу, с жару,
На копейку — пару!
Груньке и пирогов охота отведать.
— Ой, Настенька, давай на мою копеечку купим? Тебе — пирог, мне — пирог... Может, они с зайчатиной?!
Но Настя тянет Груню дальше.
— Глядите-ка, глядите! Куклы какие — вот умора!
Они остановились перед высокой ширмой и глаз не могут отвести.
А из-за ширмы видно — поверху Петрушка со своей женой Пегасьей пляшут. На нём кафтан полосатый, колпак с бубенцами... А нос — что твой огурец, только красный.
Вот где веселье так веселье!
А Петрушка кончил плясать и давай гнусавить на всю площадь тонким-претонким голосом;.
Жену мою Пегасью видали ль?
Вести про нас с ней слыхали ль?
Мы хоть и не богаты,
Да у нас носы горбаты.
И хоть с виду мы не пригожи,
Да не носим на себе рогожи.
Три дни мы надувалися,
Три дни в танцевальные башмаки обувалися,
Три дни в колпаки с пером одевалися...
Потом Пегасья прыгнула вниз, а вместо нее — цыган с лошадью. Тут совсем потеха пошла. Петрушка начал с цыганом за лошадь торговаться...
Настя до упаду смеялась. Мороз стоит трескучий, а ей впору хоть платок с себя скинуть — до того жарко.
Вдруг она увидела Фёдора Григорьевича. Он стоял неподалёку. Тоже смотрел на Петрушку, а веселился больше всех. И в ладоши хлопал. И что-то подсказывал Петрушке. И подначивал:
— Так его, так его, жулика! Кнутом, кнутом...
Тут Насте стало уже не до Петрушки — с Фёдора Григорьевича глаз она не сводит. Ишь ты, разрумянился! Да, никак, сам пойдёт плясать с Петрушкой!
А она-то думала, что ему, умному, учёному, Петрушкино озорство и вовсе ни к чему. Оказывается...
Неужто не обернётся? Хоть разок неужто на неё не глянет?
Почувствовал ли Волков Настин взгляд или просто так повернул голову в ту сторону, но только увидел Настю. А увидев, тотчас заспешил к ней:
— Настя... Ты ли? Здравствуй!
Настя вся зарделась. И любо же ей, что Фёдор Григорьевич подошёл и заговорил с ней.
Улыбнувшись, поклонилась ему в пояс:
— Здравствуй, батюшка мой, Фёдор Григорьевич!
А Волков остановился рядом и стал показывать Насте на Петрушку:
— Видала, как с Пегасьей отплясывал? Понравилось тебе, Настя? Я с малых лет пристрастен к этим забавам. Люблю глядеть! Хлёстко, весело...
Настя молча смотрела на Волкова. Глаза у неё сияли, как звёзды.
— Нет, ты глянь, глянь, как он их лупит! — продолжал веселиться Волков. — Ну и ловкач! Так их, так их...
И вдруг, отвернувшись от ширмы, над которой Петрушка теперь расправлялся с квартальными, спросил Настю совсем другим голосом:
— Сколько времени не была, Настя. Или забыла нас?
— Что вы, Фёдор Григорьевич! Мне ли забыть? Только... — Настя опустила голову и тихо обронила: — разве моя воля... я же господская.
И замолчала.
А потом еле слышно промолвила:
— Коли проведает барыня... плохо мне будет.
Глаза у Волкова потемнели. С горячностью начал:
— Да за что же на тебя гневаться? Что худого, если посидишь и посмотришь, как мы пьесы представляем?