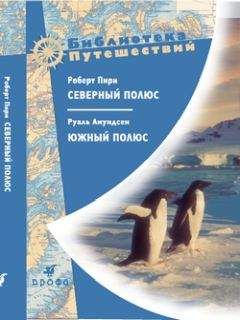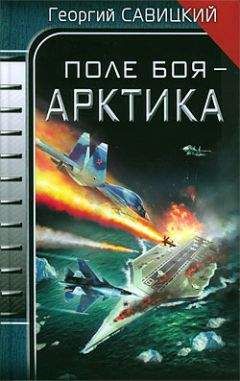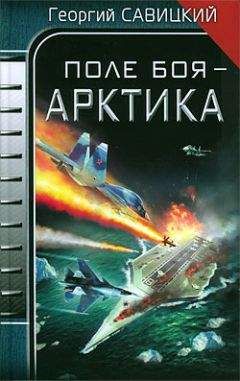Альберт Лиханов - Теплый дождь
– Дурак, что ты делаешь! – сказал ему Гошка и попробовал было отнять папиросы. Но Алеша не уступил, закурил неумело, закашлялся, но виду не подал и на глазах у Гошки выкурил подряд, одну за другой, три папиросы.
Голова закружилась. Сначала медленно, потом все быстрей. Стало хорошо, будто все Алешкины несчастья прошли, исчезли, будто их и не было никогда.
Потом Алешу замутило, он побежал в ванную, и его стошнило.
Когда он вышел в прихожую, перед ним стояла мама. Алеша не узнал ее. Под глазами у нее синели круги, вся она была как тогда, когда уехал отец. Руки у нее висели, она горбилась и смотрела куда-то мимо Алеши.
Ему захотелось обидеть ее, сделать больно – за все, за все, и он сказал:
– Ну что, явилась, капитанская дочка?..
Что-то обожгло его щеку, и в то же мгновение будто вылили на него ведро холодной воды. Нет, это не мама ударила его. Блестящими глазами смотрел на него лучший друг Гошка.
Дорога
1
Их свело только лето.
До самых каникул ходили они в школу разными дорогами. И казалось, дел-то: подойди один к другому – Алеша к Гошке или, наоборот, Гошка к Алеше, скажи какой-нибудь пустяк, и все станет на свои места. Но ведь подойти надо, надо сказать…
Нет, не так все просто это, очень даже сложно.
Очень это сложно – жить на белом свете и решать самому – что правда, а что ошибка. Вот уж, кажется, во всем ты прав, а приглядишься позорче да пораздумаешь – и все по-иному обертывается. Сложная штуковина это – размышлять и все понимать как надо…
Так и ходили бы они, наверное, друг мимо друга во дворе, в школе, на улице, не узнавали бы, словно чужие люди идут, если бы не лето.
Это Вера Ивановна расстаралась – достала путевки в лагерь, да еще подряд на две смены. Там они, в лагере, на какой-то лесной тропинке, обросшей лиловыми цветами ивана-да-марьи, встретились и первый раз за многие дни посмотрели друг другу в глаза, и отворачиваться вновь стало глупым и ненужным.
Гошка только сказал:
– Если еще такое матери скажешь – снова ударю.
И странно, Алеша кивнул. И уж вовсе странно, что кивнул не потому, что побоялся снова поссориться с Гошкой, а потому, что согласился с ним.
Что-то сдвинулось в нем с того дня, когда сказал он маме гадость и Гошка ударил его. Что-то такое произошло необъяснимое. Будто он смотрел сам на себя, со стороны, сбоку откуда-то, смотрел и думал. И хотя придумать ничего не мог, не мог сказать сам себе: так-то и так-то надо, сам себя он не принимал уже безоговорочно, не казалось ему, как раньше, что он всюду прав и только он все понимает. Не думал он теперь, что тогда, в тот день, должен был он улюлюкать вслед маме, а потом, с отцовским орденом на груди, метаться по городу, чтобы маме было больно. Размышляя об этом, мучаясь и горюя, он всегда спрашивал себя: а как бы поступил отец? Это ясно, будь он жив, никогда бы не случилось всего этого, и все-таки… И все-таки – он, Алеша, был слишком недобр тогда. Отец был добрее…
Алеша вспомнил тот старый свой сон, когда он, как с живым, говорил с отцом. Отец сказал: «Я крепко любил маму… Я думал о тебе и о ней, когда умирал. Береги ее…»
Береги ее… Это сказал он. Берег ли Алеша маму? Нет, он ее не берег, он караулил! КАРАУЛИЛ! Как какой-нибудь пес. И между этим, между караулить и беречь, – ведь между этим не было ничего общего!
Он осуждал себя, но тут же спрашивал: а мама? Почему она забыла отца? И разве можно простить ей это?
Сомнения эти и горести нарастали день ото дня – Алеша решил, что он все-таки должен поговорить с мамой. Не таясь, по-взрослому, чтобы она, не боясь, сказала ему все как есть и как она думает.
Но каждый раз, как она приезжала, Алеша не решался начать разговор первым. Они сидели на травке, два человека, не чужих человека – мать и сын, и молчали. Говорить им словно не о чем. Разве же это слова: «Как живешь?», «Ничего», «Как кормят?», «Хорошо», «Весело вам тут?», «Весело».
А что скажешь? Что спросишь? Люди сами виноваты, что им не о чем говорить.
Когда мама уезжала, Алеша долго стоял на пыльной дороге, смотрел вслед машине, и ему казалось, что он и мама – как два путника: шли, шли вдвоем, а потом дошли до перепутья, и один в одну сторону пошел, другой – в другую. Разошлись они в разные стороны, обернутся, посмотрят друг другу вслед и каждый увидит: тот, другой, стал маленьким, совсем крошечным. Глядишь – и исчезнет совсем…
Исчезнет совсем…
Как странно устроена жизнь! Мама, красивая, хорошая мама, которой он всегда любовался и налюбоваться не мог, которую так любил отец, мама, которая была всегда рядом, когда Алеша рос, и вот мама – должна исчезнуть.
Ах, если бы кто-нибудь помог!.. Ведь бывает же в школе: стоишь у доски и не знаешь, что отвечать, а тебе кто-нибудь, Гошка, например, добрая душа, подскажет. И ты повторишь.
Если бы кто-нибудь подсказал, как – сейчас? Как быть? Как все понять и как сделать дальше?
Да, он любил отца, любил всегда и будет помнить его вечно. А мама? Разве он меньше любит ее? Какая все ерундовина кругом, какая ерундовина. И маму он не забудет никогда, и отца тоже. И разорваться он не может тоже.
Алеша сидел на берегу, над маленькой мелкой речкой. Сзади что-то зашелестело, он обернулся.
– Опять сидишь, – сказал Гошка. – Ты какой-то стал, как вобла… Как вобла, – засмеялся Гошка, понравилось ему это. – Все сидишь и сидишь… Давай искупаемся!
«И правда, – подумал Алеша, – как вобла. Сижу и сижу». Он медленно разделся, бухнулся в воду, а вынырнув, улыбнулся. Стало сразу легче и проще. Будто все, что он думал, на дне осталось. Утонуло.
Он засмеялся, поплыл быстрыми, сильными саженками и словно споткнулся.
Значит, так… Значит, раз ему легко, так и все хорошо на свете? Главное, значит, чтоб тебе хорошо, а остальное – ерунда?
«Нет, нет, – подумал он и поплыл к берегу. – Пусть лучше будет он мучиться, пока не случится что-нибудь и пока не станет все на свое место…»
2
В лагере жилось сытно, но скучно, и поэтому, когда однажды была объявлена военная игра, Алеша с Гошкой, увлеченные всеобщей заварухой, засуетились тоже, строгая из сучьев автоматы. Ночь накануне они плохо спали, боясь прозевать боевую побудку, позже других одеться и вообще, не дай бог, отстать. Но никакой побудки не было, потому что с утра моросил редкий дождик и старшая вожатая, пухлая тетенька с запудренными веснушками на носу, игру отменила.
В мальчишечьих палатах начался бунт. Алеша и Гошка стояли на кроватях и, размахивая подушками, призывали к манифестации, когда дверь распахнулась и пухленькая вожатая поманила их маленьким пальчиком. Разговор был визгливый и бестолковый, после чего, выйдя на улицу, Гошка сказал:
– А ну ее на фиг, Леха!
И добавил, вздохнув:
– Несерьезная женщина…
Несостоявшаяся игра взбудоражила их, воспалила воображение. Все это время, в самые горестные часы, – и чем тяжелее ему было, тем чаще он думал об этом, – Алеша повторял сам себе те слова, сказанные Гошке на мосту, возле станции, над морозными синими рельсами. Он повторял себе: «Я буду военным…» – и в слова эти вкладывал смысл, гораздо больший, чем выражали только эти три слова. Говоря это, повторяя себе снова и снова эту клятву, данную самому себе, он верил, он точно знал, что станет военным и, став им, повторит отца. И будет на свете снова командир Журавлев.
Вместе с решением этим, с этим убеждением росла в Алеше, внутри его, какая-то необъяснимая сила. Нет, не та, когда один человек другому в доказательство своей силы так руку, здороваясь, сожмет, что тот бледнеет и охает; в этой силе Алеша многим бы уступил, пожалуй. Его же сила была совсем другой, и вовсе он ее не проявлял никогда, но вот, так уж бывает, многие эту силу видели, будто на лице она написана была, и за то уважали Алешу. Случись, скажем, сейчас драка или что-нибудь подобное, Алеша, может, и вышел бы из нее побитым, да только – нет, не сдавшимся.
Однако Алеша считал, что этого одного мало, что в человеке, который решил стать военным, должны быть две силы – одна такая, а другая физическая, полностью соответствующая. Он хотел бы в драках, если придется, выходить не только не сдавшимся, но победившим.
И все-таки, что ни говори, а кое-чему военному научились они с Гошкой за это время. Да хотя бы плавать как рыбы. А плавать для бойца, для разведчика, скажем, первейшее дело. Переплыл реку бесшумно, разведал все, обратно вернулся с ценными донесениями. Ну, а что стрелять они так и не научились, что же делать, если ни ружья, ни пистолета нет, не станешь же из рогатки пулять, хотя, конечно, и из рогатки меткости научиться можно, только мальчишеской, а не военной. Известно, меткость меткости рознь.
Так они шли под редким-редким дождичком, размышляя о неудавшейся игре, как с крыльца закричала вожатая, чтобы они немедленно вернулись, и Гошка тяжело вздохнул, а Алеша предложил даже для себя неожиданно:
– А давай совершим марш-бросок. По-настоящему.
И Гошка хохотнул обрадованно.