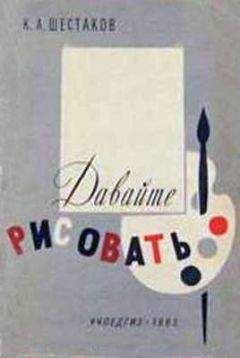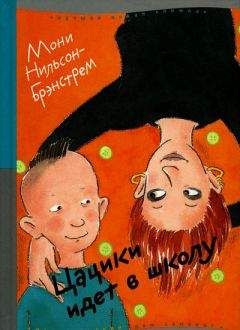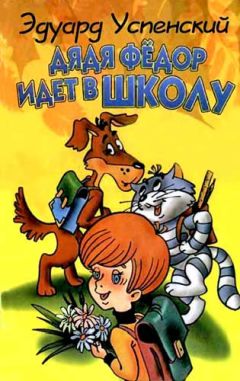Лев Разгон - Шестая станция
Один фунт верблюжатины
В тот день Гриша Варенцов не задержался на работе. Не покурил с Евстигнеичем, не выуживал у Макеича жуткие истории о катастрофах на взрывных работах — спешил в клуб на репетицию новой постановки. Поселок был непривычно оживлен. Уже была поздняя осень, подмораживало, белая крупка резала воздух, а народ стоял у бараков и о чем-то весело разговаривал.
— Слышал? — Петька Столбов схватил Гришку за плечо. — Мясо привезли! Целый вагон мяса! И знаешь какое — от вер-блю-дов! Цельных верблюдов привезли! Вот попробую! Никогда в жизни не едал. Пойдем на склад, посмотрим?
— Пойдем!
Около склада толпились люди. С подвод сгружали мясо. Действительно, Гриша и не видывал никогда такого мяса. Синее, непривычное глазу. Огромные кости — выше человека. Странные, не похожие на говяжьи, головы…
— Вот из этих мослов стюдень будет! — Сосед по бараку Федосов толкнул Гришу. — У нас в Костромской в стюдень кладут чесноку да яйца — это да, получается!..
Первым, кого на другой день Варенцов встретил в поселке, возвращаясь с работы, был Федосов. Лицо его было недовольное, брови насуплены.
— Плакал мой стюдень! Мы, плотники, носом не вышли мясо есть! Оно для таких верблюдов, как ты. Тяжелая, вишь, работа у него! У нас, плотников, легкая она, что ли?
На двери конторы висело объявление, написанное на толстом белом листке из старой конторской книги: «Рабочим, занятым только на тяжелых работах — бурильщикам, землекопам, плитоломам, кузнецам, носильщикам и тачковозам, — будет выдаваться по одному фунту мяса по талону №12»…
В коридоре конторы толпились рабочие. Они были тихи. В комнате громко разговаривали. Гриша узнал голос Зои Сергеевны. Он плечом протолкнулся сквозь толпу и втиснулся в комнатку, полную людей и махорочного дыма. Зоя Сергеевна стояла бледная, подняв кулачки, будто от кого-то защищалась. Напротив нее хмуро сидел председатель рабочкома Омулев и, не подымая головы и не глядя на людей, говорил:
— Правда ваша, товарищ Карманова. Неужто не понимаем мы, что у вас за детишки, и не знаем, как они живут?.. Ну рады бы им помочь, от себя готовы отнять, так ведь это не простое мясо, не для всех, а целевое — вот так и написано: це-ле-во-е. Значит, для точной цели, для производства!
— Григорий Степанович! Ведь они маленькие, доктор говорит, что не могут они расти без мяса, без молока, без сахара. Ну хоть немножко их подкормить, не всех, самых маленьких, самых слабых…
В голосе Зои Сергеевны уже не было никакой надежды, одна только тоска и отчаянная вера в то, что вот немного мяса — и выправятся у ее детей кривые ножки, окрепнут тонкие шейки, появится в глазенках живой блеск…
— Не имеем права! Даем это мясо только тем, у кого из рук тачка да кувалда валятся. Ведь не могут они на такой адовой работе на одном куске хлеба да на капусте, поймите это, товарищ мой дорогой!
Омулев поднял голову, как бы невидящий его взгляд уставился в Гришу и оживился.
— Вот, видели Варенцова? Молодой еще парень, хороший наш бурильщик, активист, одним словом, а ведь идет с работы — шатается! Я разве не вижу? У меня что — душа не болит за него, за его работу? Не отбурят шпуров, не нарвем сколько надо камня — не сумеем, значит, ряжи опустить. Ну, Варенцов, скажи ты хоть!..
Застывший от волнения Гриша встрепенулся:
— Я… я сейчас, Григорий Степанович…
Гриша нырнул в расступившуюся толпу, он выскользнул из тесного коридорчика и, забыв про свою хромоту, побежал по темной уже улице. В бараке рабочие раздевались, снимали портянки, рассматривали лопнувшие солдатские ботинки… Федосов, сидя на койке, как бы продолжал свой разговор с Гришкой:
— Да, а без плотников ни ряжей, ни бетонных работ — ничего нет. Как бараки рубить, как мостки делать, днем ли, ночью ли, — так, пожалуйста, товарищи хорошие, к плотникам идут, а как мясо давать — так уж и все забыли…
Гриша подбежал к своему шкафчику, рванул дверцу. Новенькая, как бы еще и не тронутая, карточка лежала в углу на верхней полочке. Гриша схватил карточку в руки, повернулся и, не отзываясь на вопросительные взгляды, побежал к выходу.
В конторе Зоя Сергеевна уже не стояла, а сидела у стола на табуретке — усталая и притихшая, будто из нее, как из футбольной камеры, весь воздух выпустили… Омулев молча сворачивал огромную, с палец, самокрутку. С трудом переводя дух, Гриша развернул карточку, оторвал двенадцатый талон и положил его перед председателем рабочкома.
— Вот, Григорий Степанович…
— Что это ты? Зачем мне даешь?
— Мясо, значит, которое мне положено. Пусть детям детдомовским. Я что ж… Я поработаю и так. Я сильный… А они, дети то есть, они не могут! Они ведь расти не будут!!!
Тихо стало в коридоре. Омулев отложил цигарку, бережно взял талон, расправил его заскорузлыми пальцами, задумался на секунду и положил возле Зои Сергеевны.
— Спасибо тебе, товарищ Варенцов… Жалко, что не могу я свой талон отдать — не положено мне его…
И Евстигнеич, вдруг неизвестно откуда-то появившийся, протиснулся к столу, не спеша вытащил из куртки завернутые в кусок брезента какие-то бумажки, не спеша достал мятую свою карточку, не спеша оторвал двенадцатый талон, не сказав ни слова, положил его на Гришкин талон и застенчиво отошел…
Григорий не видел людей. Он не сводил глаз с кусочка стола возле Зои Сергеевны. Там уже не один, не два талона лежали — кучка их росла и росла. Рабочие молча протискивались к столу и один за другим клали на стол талоны… Григорий Степанович облокотился на стол рукой, державшей все еще незажженную цигарку. Он слегка покачивался, думая свою какую-то думу. Глаза у него стали светлые, веселые. Уверенные глаза. Будто этой вот кучкой талонов на верблюжье мясо он всех накормит, все сделает. И дети будут расти, и станцию построят, и Гриша Варенцов не будет шататься от слабости, и всем, всем станет хорошо…
А может, так и будет?..
Екатеринослав — город железный
На мертвом якоре
Стройка умирала. На взгляд человека свежего и неопытного, все, казалось бы, шло обычно. Утром из бараков выходили рабочие, шли к инструменталке, разбирали инструмент и отправлялись по своим местам. Конторские служащие рассаживались за свои столы, начинали стучать костяшки счетов, и шум разговоров перекрывал пулеметный треск пишущей машинки. Из трубы столовой тянул тонкий дымок, и прелый запах обещал на сегодня все тот же обычный капустный суп. Все, казалось, было как всегда. И все же стройка умирала…
Каждое утро, обойдя все строительные площадки, Графтио приходил в свой кабинет и с отчаянием перебирал в уме всё новые приметы умирания строительства. Перестали строить бараки номер тринадцатый и номер пятнадцатый — еще одна артель плотников снялась со строительства и ушла искать работу повыгоднее… На отсыпке ряжей тачек стало еще меньше — тачки ломаются, а колес к ним нет… А главное — даже тем немногим людям, которые еще остались на Волховстройке, нечего делать… Рабочие сидят, сворачивают махорочные цигарки и, когда к ним подходит главный инженер, не подымаются к своим местам, а сумрачно и вопросительно смотрят на начальство… А что ж начальство! Оно не может им дать ни железа, ни инструмента, ни проволоки, ни моторов… Ничего этого нет. Вот так крутится по инерции огромный и тяжелый маховик. Еще продолжается бешеный бег колеса, еще невозможно разглядеть спицы, но уже ушла из маховика живая сила, приводящая его в движение, и опытный глаз инженера видит, незаметное еще другим, постепенное замедление бега…
Почти окончены подготовительные работы, надо приступать к основным. Надо начинать строительство плотины, но ведь нет ни кессонов, ни компрессоров… Нет моторов для бетономешалки, нет нужных марок цемента. И нет железа для арматуры, нет даже простой железной проволоки! Чего там проволоки — нет и гвоздей для того, чтобы опалубку делать, нет кирок, лопат…
И нет сил и права упрекать людей, каждый день по одному, по два, по десятку уходящих со строительства… После дня тяжкого труда рабочие получают в столовой миску супа из капустных листьев. Большая часть бараков не закончена, а в тех, где живут, — грязь, теснота, ни столов, ни табуреток… Околачиваются вокруг стройки десятки никому не нужных служащих, приткнувшихся к Волхову, чтобы укрыться от мобилизации в армию, чтобы получить инженерный паек. Недаром этих молодчиков кличут «панами»… На столе главного инженера давно лежит серый и ломкий листок газеты «Новоладожская коммуна». Там какой-то свой, волховский, подписавшийся «Рабочий», написал хлесткий и невеселый раешник…
«…Ребятушки, здорово! — вам мое слово. Слышно, что у вас, ребята, дело идет слабовато… Дисциплинки, говорят, трудовой мало или, проще говоря, совсем не бывало…
Посматривайте со стороны, чтобы работали у вас и паны. А то у них проделки ловки, катаются за молоком в командировки. И слышал я, что они вам сладко поют, а сами устроили в Дубовиках дворянский приют.