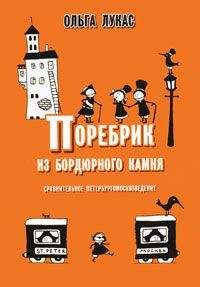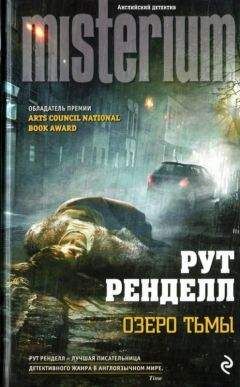Николай Федоров - Тучков мост
Напульсник времени
— Квартирка ничего… Ничего квартирка, — говорил дядя Боря, расхаживая по комнатам. — Кухня… Сколько кухня? Шесть и семь?
— Шесть и семь, — сказала мама.
— Так, так, так… Две лоджии. Очень хорошо. Одну застеклить надо. Ага, ванная. Н-да, ребятки, не обижайтесь, но кафелек у вас аховый. Как в морге, кафелек.
— Хозяина в доме нет, — сказала мама и выразительно посмотрела на папу.
— А это что у вас висит? — спросил дядя Боря, взглянув на потолок.
— А это, Боречка, линия электропередачи висит. Я уже три года прошу этих лодырей скрытую проводку сделать — как об стенку горох. Им ничего не надо, живут, как в хлеву.
— Ну, Семенова, не ворчи, не ворчи. У тебя такие мужики! А проводка — ерунда. Я тебе нашего Гриню пришлю — он за пять минут все сделает. Вот линолеум, братцы, — это никуда не годится. Человек должен ходить по паркету.
— А мне нравится, — сказал папа. — Очень удобно: провел мокрой тряпкой — и чисто.
— Оно, конечно, мокрой тряпкой тяп-ляп. Но вы ж, ребятки, не в Доме колхозника живете. Свою норку можно и поскрести. Поскрести можно.
— Ну что ты говоришь, Боря! — всплеснула мама руками. — Кто это будет скрести? Живут, как на вокзале. Ты посмотри, какой стол у этого так называемого ученика.
На столе у меня, конечно, как и всегда, был творческий беспорядок. Иногда папа, посмотрев на него, говорит: «Жаль, что я не художник. Готов биться об заклад, что такого неожиданного натюрморта нет ни в одной картинной галерее». Мама выражается короче и яснее: «Помойная яма». Сейчас, помимо разбросанных учебников, тетрадей, сломанных карандашей и непишущих ручек, на столе лежали: тиски слесарные, модель вертолета «Ми-5» с отбитым хвостом, обрезок сосновой доски, два десятка стреляных гильз от малокалиберной винтовки, собачий жетон, бутылка эпоксидной смолы, проржавевший напильник, кусок плексигласа и прочая разная мелочь, состоявшая из маленьких гвоздиков, шурупов, гаек, заклепок. Весь этот натюрморт был густо посыпан стружками и алюминиевыми опилками.
— Ничего, ничего, — сказал дядя Боря, взглянув на стол. — Из хаоса рождается порядок. Я тебе скажу, к кому обратиться.
Выходя из комнаты, дядя Боря зацепился за пластмассовый плинтус, и тот с диким треском отвалился от стены.
— Ох, простите, я, кажется, что-то сломал, — сказал дядя Боря, с удивлением глядя на провода, которые прикрывал плинтус.
— Пустяки, — сказал папа. — Он у нас все время отскакивает. — И, приложив плинтус, саданул по нему ногой. Тот с неменьшим треском встал на прежнее место. — Вот и порядок!
Когда мы садились ужинать, дядя Боря сказал:
— Погоди-ка, Аня, у меня тут бутылочка есть. Застойная. Теперь такую днем с огнем не сыщешь. — И он достал из «дипломата» бутылку «Рябины на коньяке».
— Борис Михайлович, — сказал папа, — вы же, кажется, на машине. Вам бы не надо…
— Ничего. Рюмочку можно. За встречу.
— Да я понимаю, что вы с рюмки не опьянеете. Но ведь без прав из-за такой ерунды остаться можно.
— Ну, ну, ну, не преувеличивайте, Александр Николаевич. В конце концов, заплатим штраф.
— В таких случаях, вы же знаете, штраф не берут.
Дядя Боря засмеялся:
— Это, дорогой мой, смотря какой штраф. Три рубля не берут, а вот триста — еще как берут.
— Это не штраф, а взятка, — сказал я. — И если честный милиционер попадется, он у вас все равно права отнимет.
— Не суйся во взрослые разговоры, — сказала мне мама. — Ешь быстрей и иди разбирай свою помойку.
— Пусть, пусть сидит, — сказал дядя Боря. — Большой уже мужик, должен знать, что почем в этой жизни. А жизнь, ребятки, дорожает. Дорожает жизнь.
— Мне кажется, наоборот, — сказал папа. — Жизнь обесценивается.
— Ну, это вы в философском смысле. Но, дорогой мой, из философии каши не сваришь и сапог не сошьешь. Вы мне лучше, Александр Николаевич, скажите, не писали ли вы стихов?
— Как же не писал! Писал. Помню, в пятнадцать лет я даже поэму сочинил. Называлась «Лимонный свет». Потом я сжег ее в печке, полагая, что иду по стопам Гоголя. Помните, тогда ведь печки еще были, а в них так и подмывало что-нибудь сжечь. Теперь писателям туго: совсем негде спалить даже маленькую бумажку. Поэтому приходится все тащить в издательства. А почему вы вдруг об этом спросили? Уж не заведуете ли вы издательским кооперативом?
— Нет, нет, у нас другой профиль. Дело у нас деликатное, но нужное. Нужное дело. Сейчас ведь народ к чему потянулся? К истокам, к истокам потянулся, к культуре. В том числе и к культуре на кладбищах. Верно, Семенова?
— Конечно, Боречка, конечно, — сказала мама, подкладывая дяде Боре салат.
— То-то и оно. Раньше ведь как: зарыл покойника, сунул в землю трубу водопроводную со звездой из жести — и вся любовь к усопшему. Теперь нет. Теперь все хотят камешек. А то и памятник с ангелочками да херувимчиками. Да чтоб непременно буковки золотые — на веки вечные.
— А-а, так у вас похоронное бюро, — сказал папа. — Вы, стало быть, гробовщик?
— Ничего подобного. Мы занимаемся только камнями: ну, плитка там, столбик, крестик. Кому что по душе. И по карману.
— Замечательно. Только непонятно, чем бы, скажем, я мог бы быть полезен. Вам ведь каменотесы нужны, грузчики.
Дядя Боря выпил рюмку и, захрустев маринованным огурцом, назидательно сказал:
— Нам, дорогой мой, никто не нужен. Думаю, легче занять кафедру в университете, чем устроиться к нам грузчиком. Что же касается вас… Видите ли, клиенту теперь камня с именем и с датой мало. Ему надпись подавай трогательную, желательно в стихах.
— Понял, понял, вам нужен сочинитель эпитафий. «Зачем душистыми цветами земля могилы убрала? Не ощутима мертвецами их освежающая мгла».
— Вот, вот, вот, — закивал головой дядя Боря, — Только это вы что-то старинное прочли. А надо бы посовременнее. Между нами говоря, я сам тут сочинять пробовал. Но туго, туго идет. Не мой профиль. Одну, правда, написал, и вроде неплохо. Да я вам сейчас прочту. — Дядя Боря полез в карман и, достав бумажку, продекламировал:
Безвременно прервал ты свой полет
Над миром нашим суетным и спешным,
Как в небе пораженный самолет…
И вот охвачен мраком ты теперь кромешным.
— А? Ну как?
— Гениально, — сказал папа.
— Я понимаю, вы иронизируете, — сказал дядя Боря. — Конечно, не шедевр.
— Почему же? — сказал папа. — Как раз шедевр.
— Ну, не будем, не будем. И все-таки, согласитесь, звучит вполне современно: полет — самолет. Чувствуется пульс времени.
— Скорее, напульсник, — сказал папа.
— Я не знаю, Саша, что такое напульсник, — сказала мама. — Но работа, мне кажется, очень интересная. Творческая. Я бы, не задумываясь, пошла.
— Погоди, Аня, — сказал дядя Боря, — расширим дело и тебе место найдем.
— Плакальщицей, например, — сказал папа.
— А что это такое? — спросил я.
— А это оплакивание покойников за умеренную плату.
— Лучше оплакивать чужих покойников, чем свою жизнь, — сказала мама.
— Ну, ну, ребятки, перестаньте, — сказал дядя Боря. — Что за настроение? Жизнь прекрасна и удивительна. Надо только рассуждать поменьше. И побольше делать.
Когда дядя Боря ушел, папа налил себе рюмку, выпил и сказал:
— Вот и хорошо. Теперь, Семенова, у тебя не будет проблем с моими похоронами. Как это там: «…охвачен мраком ты теперь кромешным».
— Надо в течение недели позвонить Борису и дать ответ, — сказала мама и, поджав губы, пошла на кухню мыть посуду.
— Не боимся буржуазного звона и ответим на вызов Керзона, — сказал папа и вылил остатки наливки в фужер.
— Пап, да не пей ты эту дрянь застойную, — сказал я. — Пойдем лучше споем что-нибудь.
— Да, да, надо спеть. Знаешь такую песню: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…»
Я взял папу за руку и повел в свою комнату. Так однажды я вел первоклассника, заблудившегося в новостройках.
Трудно нарисовать медведя
Я шел по двору из магазина, когда вдруг кто-то сзади на меня наскочил и закрыл ладонями глаза.
— Петька? — спросил я.
— Нет, не Петька. А ты только о своем Петьке и думаешь.
Я обернулся и увидел Олю.
— Да нет, — смутился я, — с Петькой мы договаривались… Я решил…
— Ладно, ладно, не оправдывайся.
— А что это у тебя? Прическа какая-то новая.
— Я подстриглась. Нравится?
Волосы у Оли стали совсем короткими, и теперь она походила на мальчишку.
— Нравится, — сказал я. — А ты куда?
— Я тебе звонила. А сейчас специально вышла, чтоб тебя встретить. Прямо не знаю, что делать.
— А что такое?
— Ты мою подружку Катю Чупрову знаешь?
— Ну, знаю немного.
— Так вот, она заболела, лежит, температура — сорок, горит вся. А бабка ее в деревню на два дня уехала. Одна лежит, бедненькая.