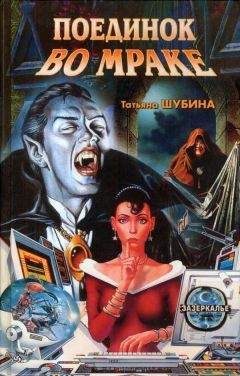Зофья Хондзыньская - Встречаются во мраке корабли
— Понимаю. Приятное воспоминание стало неприятным.
Эрика кивнула головой.
— И так во всем, — вдруг сказала она.
Павел почувствовал гордость: пациентка проникается доверием, что-то уже говорит о себе. Он поднял глаза и, словно на стену, наткнулся на ее хмурое, замкнутое лицо. Ему стало не по себе: выходит, свалял дурака? Вспомнилась Алька — уж кто-кто, а она сейчас поиздевалась бы над ним. Это она выдумала как-то «святого Павла». Забавно, что Эрика, не подозревая об этом, так же его окрестила. И тоже с издевкой.
Он оглядел эту прокуренную, захламленную конуру и представил себе Алькину комнату — яркие подушки на кушетке, букет в красивом медном кувшине на полу. А этот ее шик! Несомненно, Алька была самой модной девушкой года. Холодная, но чувственная, опытная в отношениях с молодыми людьми, веселая и насмешливая, податливая и немного злая. А тут…
— Как это во всем? — спросил он, наперед зная, что Эрика не ответит на этот вопрос. Явно ведь жалеет о сказанном.
Он снова поднял на нее глаза и вздрогнул: за несколько секунд, пока мысли его бродили далеко отсюда, что-то изменилось в ней — серые глаза ее сверкали, как у разъяренной кошки.
— Эй, Павел, а ты заметил, что она морит голодом зверей?
Выстрел был настолько неожиданный, что Павел остолбенел. Крутой, однако, вираж совершила Эрика! Выглянула наружу и теперь любой ценой хочет скрыться за дымовой завесой.
— Что ты плетешь? — сказал он, не в силах скрыть раздражение. — Ты ведь жаловалась, что для зверей она и фарш достает.
— Идиот! Это напоказ, понимаешь? Просто ты легко попался на удочку, как и все прочие.
— Зачем ты лжешь, Эрика? Не морит она голодом зверей, и ты отлично это знаешь. Может, у нее много других недостатков, может, она и впрямь пытается выдать себя за кого-то другого. Но этого не делает. Ты сочиняешь.
— Большой, а дурачина ты, простофиля и ничего не понимаешь. Думал: «Поговорю с ней, и она тут же изменится. Этакой примерной девочкой станет, паинькой». Жаль твоего времени — уж поверь мне.
* * *Павел сидел у себя. Просматривал газету, но глаза его лишь скользили по буквам, а в голове звучала фраза, которую он услышал пару дней тому назад и которая никак не оставляла его в покое: «Большой, а дурачина ты, простофиля». И это сказала ему девочка… Неважно, права ли Эрика, важно, что таким она его увидела. От простофиль не принимают ни предостережений, ни советов. Над простофилей смеются, и никому не придет в голову считаться с его мнением. Короче, все сыгранное им сыграно плохо. Он не сумел как следует поставить себя с Эрикой. Ни на грош не завоевал ее авторитета. Иначе говоря, зря тратил тут время.
И все же за этими мыслями таилась слабая надежда, что, может, слова Эрики продиктованы обычным для нее стремлением к самозащите, страхом перед вторжением в ее душу, в ее комплексы и драмы. Но на этой надежде много не построишь. Она права, черт побери. Простофиля он. Старый дурень.
В соседней комнате Сузанна меняла повязку няне, а та ворчала, что полно уж ей вылеживаться, надобно за продуктами идти.
— Исключено, няня. Вам надо полежать пару дней. Мир не рухнет.
— Рухнет, — включился неожиданно голос Эрики. (Павел вздрогнул: он не слышал, как она сошла вниз.) — Я тоже плохо себя чувствую, простудилась и не намерена бегать по городу.
Павел навострил уши. Реакции Эрики были необычайно четки. Простуду эту она только что выдумала. Просто в ней заговорила ревность — Сузанна проявила о ком-то заботу — и захотелось привлечь к себе ее внимание. Впрочем, он уже не раз это замечал. Эрика не любила зверей, потому что Сузанна относилась к ним куда сердечнее, чем к ней. Когда вчера Сузанна, выходя, попросила его дать коту пенициллин, Эрика, едва они остались одни, тут же на него набросилась:
— И ты уже зверюшками занимаешься? Мало того, что ты святой Павел, так еще в святые Франциски напрашиваешься?
— Тебя, между прочим, зверюшки эти содержат, — не слишком деликатно заметил он. — Весь дом они содержат, так что не грех и позаботиться о них.
— Послушай, вернулся бы ты в Варшаву, а? Мораль читать мне тут и без тебя есть кому. — Она с минуту помолчала, потом глаза ее зло сверкнули: — А я не говорила тебе, что однажды кота ее отравила?
Павел даже головы не повернул. Он чувствовал, что Эрика в его честь делается невыносимее, чем есть на самом деле. «Ты считаешь меня плохой, ну так я буду плохая» — так он объяснил себе ее манеру поведения.
Вечером он все-таки спросил:
— Пани Сузанна, случалось, чтобы Эрика отравила какое-нибудь животное?
— Ну знаешь, Павлик… Этого еще недоставало. Откуда тебе такое в голову взбрело?
— А она сказала мне, что однажды кота отравила.
— Рассчитывала, верно, поразить тебя. В самом деле как-то у нас кот пропал, и она притворялась, будто он — на ее совести, но потом кот нашелся. И еще гордится этим? А я-то думала, что все давно позабыто.
— Вы можете рассказать об этом?
— Несколько лет назад приютила я приблудного котенка, чуть не задавив его ненароком на улице. Недельный был, не больше. Я выкормила его соской, ну и оставила у себя. А через пару дней узнала, к удивлению своему, от няни, что Эрика изволила играть с ним, даже берет его к себе на ночь; было ей тогда одиннадцать лет и «ненависть» к животным уже входила в ее программу. Я была еще наивной и расценила этот ее поступок как благую перемену. Короче, она поняла, что меня это радует. Ну, и на другой же день кот исчез. Одновременно — обрати внимание: было ей, как я сказала, одиннадцать лет — пропало куда-то мое снотворное. Искала я того котенка целый божий день, няня тоже, а Эрика демонстративно даже из комнаты не вышла. За ужином я не выдержала, зря, конечно: ей ведь только того и надо было. Одним словом, я спросила, не знает ли она, что случилось с котенком. А она спокойно так: «Я отравила его». Представь себе, у меня хватило выдержки ни слова ей не ответить. А через пару дней ребятишки принесли кота из овощного магазина. Не знаю уж, каким чудом он туда забрел. Больше мы ни словом не обмолвились на эту тему, я ничего не сказала, когда кот нашелся. И была уверена, что все давным-давно быльем поросло. Ан нет, видишь, вспомнила и решила еще раз продать эту версию, чтобы поразить тебя.
— Я абсолютно убежден, что она с удовольствием возилась бы с животными, если б была уверена, что вы этого не видите. Вся эта «ненависть» рассчитана на вас. Реакции Эрики хрестоматийны, почти все они описаны в наших лекциях.
— Небольшое утешение. А лечение тоже описано?
Павел не ответил. Лечение, которое, по его мнению, было тут крайне необходимо, Эрика, увы, не могла получить дома.
* * *— А что, пани доктор не сойдет сегодня к завтраку?
— Ее всю ночь дома не было, опять спасала чертенка какого-то. Вызвали в десять вечера, и только пришла, едва живехонька. В ванной она. Зато Эрика сегодня что-то пораньше встала. Сойдет к завтраку. Погодите чуток, Павлик, я вам яичницу приготовлю.
Ну и дела! Такого еще не было, чтобы Эрика спустилась утром вниз раньше матери.
— Разреши почтить тебя вставанием… — начал он, когда она вошла, и осекся.
Такого лица он раньше никогда у нее не видел. Это была маска бешенства: припухшие глаза, продольная складка меж бровей. В растерзанном виде, с сигаретой во рту, она тяжело уселась за стол. Ресниц не смыла, очевидно, со вчерашнего дня. Нависло молчание.
«Самое разумное — смотаться, — подумал Павел. — Ничего хорошего не жди».
Эрика взяла булку, надкусила, скривилась и тут же выплюнула на тарелку.
— Что за гадость! — буркнула она.
Замечание было брошено в пространство, но его услышала входящая в комнату Сузанна.
На этот раз, может оттого, что не спала ночь, она, против обыкновения, не обошла молчанием реплику Эрики.
— Ты что-то сказала?
Эрике только того и надо было.
— Булки черствые. Даже если утром встанешь, свежего хлеба в доме не дождешься. Двое вас, а позаботиться некому.
— И у тебя еще хватает совести говорить такое! Знаешь ведь, что няня еле двигается, а я всю ночь не ложилась, полчаса тому назад пришла.
— Так магазины уже открыты были. Стоило лишь вспомнить.
Сузанна переменилась в лице.
— Наглая! — зашипела она. — Я ночь напролет оперирую, едва на ногах держусь, домой забегаю, чтоб наспех принять ванну, и снова мчусь, и я еще должна помнить, что ты, моя воспитанная, ласковая доченька, день-деньской гниющая в постели, изволишь не любить вчерашних булочек!
— Сколько морального удовлетворения в одной такой фразе! — очень спокойно ответила Эрика. — Сама добродетель, сама непогрешимость, трудолюбие и самоотверженность, противопоставленные такой отпетой дряни, как я… Павлик это оценит, не правда ли, Павлик?
Эрика встала, с шумом упал стул. Она была босая, так что шагов слышно не было, но дверь грохнула с такой силой, что зазвенели стаканы.