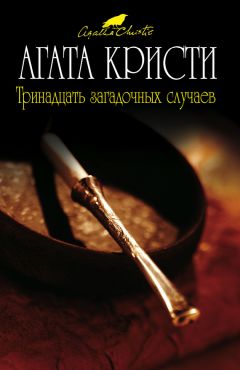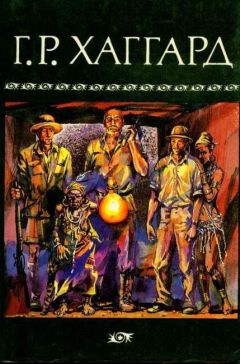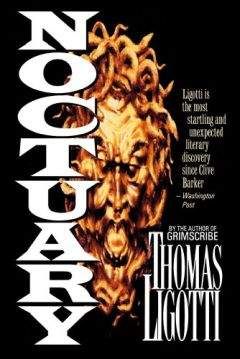Холли Шиндлер - Темно-синий
Но ничего такого не произошло. Никакого смысла сидеть и желать несбыточного. Надо было срочно что-то придумывать.
Что он там такое сказал?
— Эп… эпизод, — промямлила я.
Мама обернулась ко мне — глаза широко раскрыты, как будто она только что разорвала выигрышный лотерейный билет: двести миллионов долларов превратились в маленькие клочки бумаги на дне мусорной корзины.
Я до нее достучалась.
— Это не вода, — сказала я, и мои слова били по ней, словно прямые удары, от которых она не могла уклониться. Если это был поединок двух воль, то я обязана была его выиграть. — Поэтому можно ходить, правда. — Я встала и увернулась от ее руки, когда она попыталась меня поймать. — Посмотри на меня. Ничего не происходит. Я не тону. Это всего лишь ступени. Помнишь наш матч? Ты пришла сюда посмотреть на игру. И мы выиграли, мам. — Я попыталась улыбнуться, хотя капли дождя впивались в кожу, как холодные гвозди, и я еще не перестала плакать. — Мы выиграли. Пойдем домой, ладно? Пойдем домой.
Вспоминая, как я тогда обняла ее — точно так же, как остальные матери обнимали своих дочерей, когда уводили их с поля, — я положила телефон на место. О чем я только думала? С чего я взяла, что отец мне хоть чем-то поможет? Проще допроситься помощи у щипцов для салата.
Я иду в мамину комнату, я снимаю иглу с пластинки и отвожу рычаг в сторону, но не до конца, потому что двигатель не выключается и наклейка «Pearl» продолжает вращаться.
Проигрыватель у мамы очень старый; она цепляется за него, как ребенок за любимую игрушку. И у нее действительно хорошее собрание виниловых пластинок — любой коллекционер бы позавидовал. Хендрикс, «Пинк флойд», «Вельвет андеграунд». Редкости вроде промопластинки «Роллингов» «Sticky Fingers», «Bringing It All Back Home», подписанная самим Диланом. У нее есть даже альбом «Битлз», где они все в мясницких халатах. Если их все продать, я, наверное, могла бы поступить в какой-нибудь крутой колледж. Но мама никогда с ними не расстанется. А кто я такая, чтобы просить маму расстаться еще хоть с чем-нибудь? Я имею в виду, скольким из нас пришлось распрощаться с нормальной реальностью?
— Слишком громко, — говорит мама и бросает на меня яростный взгляд — мне как будто попал в лицо тяжелый футбольный мяч.
— Ничего подобного, — возражаю я. — Я его выключила, видишь, мам? Хватит музыки.
Она страдальчески морщится, как будто перегруженные маршалловские усилители в милю высотой грохочут прямо у нее в мозгу. Если бы ей можно было помочь, уменьшить громкость ее мыслей, которые звучат у нее в голове, словно слишком навязчивое радио.
Но затем мама трясет головой, словно собака, вытряхивающая из ушей воду, хватает коробку с красками и начинает яростно бросать на пол тюбики с маслом и акрилом, срывать крышки с жестянок. Она окунает кисть в небольшую жестянку темно-серой с металлическим отливом краски. Достает ее и принимается разбрызгивать краску по лежащей на полу смятой ткани, как будто хочет написать картину в стиле Джексона Поллока.
— Я знаю, как это поправить. Все. Ладно, — повторяет она.
А ее глаза… Если я когда-нибудь встречусь с диким животным, у которого будут такие глаза, я медленно, с бешено бьющимся сердцем, отступлю назад.
— Мам, — говорю я ей, — у тебя эпизод, понимаешь? Как в машине сегодня утром. Что ты увидела, когда мы съехали с дороги? Почему ты забрала меня из школы? Все это просто эпизод.
— Оставь меня в покое, — яростно шипит она, опускает иглу на пластинку и поворачивает ручку громкости на такой уровень, что я могу ей что угодно говорить — она меня все равно не услышит.
6
Один из основных факторов риска для развития шизофрении — близкий родственник, которого полностью подчинила себе болезнь.
Входная дверь взрывается от яростного стука. Открыв ее, я обнаруживаю на пороге нашу соседку, миссис Пилкингтон, в фиолетовом спортивном костюме. Нечесаные седые волосы торчат во все стороны, будто ее только что ударило током.
— Что тут у ваш проишходит? — едва ворочая языком, говорит она и показывает на щенка лабрадора у своих ног. — Вы Скутера пугаете.
Она что, серьезно?
— Я… я полицию вызову, — грозит она, обдавая меня запахом виски. Ее лицо как будто сделано из кулинарного жира и забыто на солнышке жарким летним днем.
— Не надо, — говорю я. — Я сделаю потише… Простите.
Ну да, она горькая пьяница. И может быть, если она пожалуется, копы только плечами пожмут. Но с другой стороны, если копы и правда зайдут к нам в дом, они увидят, в каком мама состоянии — это если я не придумаю, как ее из него вывести, — и закончится все тем, что ее увезут. Наденут на нее смирительную рубашку. Попытаются привести ее мозг в порядок с помощью старого доброго электрошока.
А если маму запрут в психушке, что со мной-то будет? Не хочется выглядеть привередой, но я правда не знаю, что хуже — приемная семья или жизнь с папой (рожок ванильного мороженого) и Брэнди (отвратительный розовый пузырь из жвачки, надуваемый раз в три секунды).
Я вбегаю в мамину комнату и выдергиваю шнур проигрывателя из розетки.
— Дай сюда, — говорю я и протягиваю руку к кисти. — Прекрати, там Пилкингтоны уже приходили. Пора заканчивать.
— Нет! — кричит мама. — Не смей отнимать это у меня. — Я понимаю, что речь идет не только о кисти. Она говорит не о пучке щетины на деревянной рукоятке. Эти слова доносятся прямиком из самой темной части ее личности. Они поднимаются к поверхности с илистого дна души. Она говорит о своем искусстве. — Я не могу без этого обойтись, — шепчет она.
Я убираю руку и смотрю, как мама хватает тюбик желтой краски и выдавливает ее прямо на кисть. По крайней мере, она, кажется, забыла про Дженис. Я поворачиваюсь и выхожу из ее комнаты.
Сегодняшнее утро так тяжело давит мне на плечи, что я чувствую себя Атлантом, подпирающим все это чертово небо. Моя сумка лежит на столе, из нее выглядывает уголок учебника по биологии.
Я достаю из нее альбом и с головой ныряю в него, как в бассейн. Рисование меня успокаивает, собирает по частям, точно как маму.
В последнее время, если я беру в руки карандаш, живопись и поэзия сливаются воедино, перетекают друг в друга. Они переплетены так тесно, что если бы захотелось искоренить, убрать с листа одно, то пришлось бы уничтожить и второе. Я начинаю рисовать лошадь-качалку: вот вперед, а вот назад, вот нормален, а вот безумен, вот ты здесь, а вот тебя нет… А под ней на листе взрывается стихотворение — яростное и печальное:
Перед глазами снова тени:
Фигура в танце, на авансцене.
Воображение летит —
Но ведь это опасно.
Миражи в ее глазах —
Вы проверьте — погасли?
И как всегда, пока карандаш порхает над бумагой, дышать становится немного легче. Боль, причиняемая этой жизнью, пульсирует уже не так сильно. Я рисую, вместе с изображениями приходят слова, и это как укол кортизона — боль уходит. Я уже могу шевелиться и не чувствую себя раздавленной.
Но затем я поднимаю голову и сквозь стеклянную раздвижную дверь вижу миссис Пилкингтон со Скутером у себя на заднем дворе. Она ковыляет, шатается, показывает рукой на дерево, как будто указывает грабителю удобный путь. Из дома выходит Джоуи — хлопает обтянутая сеткой летняя дверь — и сердито кричит (что-то вроде «встреча… встреча», «куратор»); голос похож на голос отца, когда тот злился. Так они и живут: то Джоуи сорвется, то его мамочка, и трезвый индивид устраивает громкие сцены пьяному, когда тот возвращается домой в пять утра с блевотиной на одежде.
«Они похожи как две капли воды», — думаю я. По спине ползут мурашки. Я бросаю рисунок и иду по коридору в свою спальню. Вообще-то это странная комната, мало похожая на настоящее убежище, с ковром ярко-зеленого цвета и бледно-голубым потолком. На стенах всякие цветы — в третьем классе мама вытащила меня из постели, когда ее вдруг среди ночи стукнуло вдохновение, и мы рисовали их до рассвета. Их лепестки усыпаны разноцветными крапинками, тычинки причудливо завиваются. На них сидят божьи коровки размером с кошку. Сверху нависают облака, похожие на синюю сладкую вату.
В ту ночь, когда мы все это рисовали, отец был в Альбукерке — навещал старого приятеля. Хотя в основном рисовала мама, по правде говоря. Я только смотрела, подавала ей палитру, добавляла белого, красного или оранжевого, когда она мне велела, и смешивала краски концом линейки. Я тогда была очень горда тем, что могу принять хоть какое-то участие.
— Не могу взять. — Наши комнаты находятся прямо напротив, через коридор, и я слышу сердитое мамино бормотание. — Не могу. От меня. Мое. Нельзя. Я все поправлю. Все. Прекрасно.
Я вспоминаю, как позапрошлым летом, когда рассвет окрашивал небо в апельсиновый цвет, Джоуи кричал своей матери: «Ты не можешь заставить меня бросить. Не можешь заставить меня». Несмотря на то что алкоголь и остальная дрянь, на которой он сидел, явно его убивали. Несмотря на то что выпивка была первопричиной абсолютно всех их проблем.
![Жюль Верн - Миссис Брэникен [Миссис Бреникен]](/uploads/posts/books/28259/28259.jpg)
![Жюль Верн - Миссис Брэникен [Миссис Бреникен]](/uploads/posts/books/28288/28288.jpg)