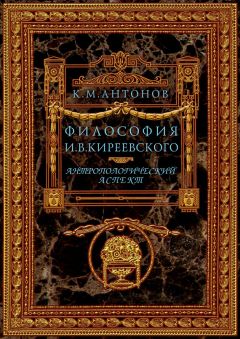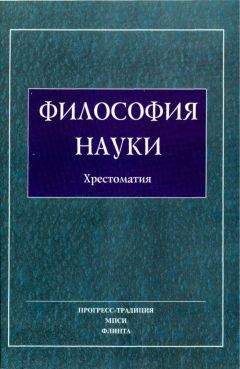Александр Доброхотов - Философия культуры
Дидро. «Парадокс об актере»
У «Парадокса об актере» сложилась довольно парадоксальная история восприятия. Этот маленький шедевр Дидро отличается вроде бы не концептуальной сложностью, а литературным блеском и неожиданностью поворота темы, но многочисленные (зачастую очень темпераментные) отклики озадачивают именно разнообразием истолкования главной идеи диалога. Казалось бы, театральные деятели, адресаты «Парадокса», соглашаясь или не соглашаясь с Дидро, могли прийти к согласию хотя бы в понимании сути «послания» автора. Но этого не произошло. Характерен такой пассаж К.С. Станиславского: «Основные мысли Дидро, очень неправильно понятые и истолкованные, сводятся к следующему: актер не переживает те же самые чувства, что он переживает в жизни. По мнению Дидро, нельзя жить подлинным чувством совершенно тождественно тому, какое мы испытываем в жизни, но можно жить настоящим, вновь творчески зародившимся чувством, то есть иными словами он говорит то же, что и мы, когда призываем в нашем творчестве на помощь аффективные воспоминания. <…> У Риккобони есть письмо Дидро <…>, где Дидро отстаивает наши принципы, а та отстаивает мейерхольдовские принципы»[17]. В данном случае не так важно, насколько близки «аффективные воспоминания» методу Дидро. Важнее то, что Станиславский берет Дидро в союзники, противопоставляя Мейерхольду. Но и Мейерхольд видел близость идей Дидро приемам своей «биомеханики», а Эйзенштейн вычитывал у него предвосхищение принципов монтажа[18]. Это говорит, кроме прочего, о том, что основная мысль «Парадокса» допускает разные толкования. Диалог этот, как легко заметить, весьма патетичен, но смысл пафоса выводит нас, как представляется, за пределы театральной темы. Ниже предпринимается попытка прочитать «Парадокс об актере» в свете конфликта рассудка и воображения как двух ключевых концептов Просвещения и соответственно в контексте первого кризиса рациональности в европейской культуре Нового времени, многосторонне проявившемся во второй половине XVIII в.
Основной тезис диалога, который на все лады варьируется автором, заключается в требовании дистанцирования от роли и эмоциональной невозмутимости, которые необходимы «великому актеру». «Я хочу, чтобы он был очень рассудочным [beaucoup de jugement]; он должен быть холодным, спокойным наблюдателем [un spectateur froid et tranquille]. Следовательно, я требую от него проницательности, но никак не чувствительности [la pénétration et nulle sensibilité], искусства всему подражать [l’art de tout imiter],vum, что то же, способности играть любые роли и характеры». Так говорит первый протагонист, выразитель авторских мыслей. Второй изумленно восклицает: «Никакой чувствительности! [Nulle sensibilité!]»[19]. Конечно, это вызов веку сентиментализма, несущий не только критику, но и некую позитивную контрпрограмму. В чем преимущество «рассудочной» игры? В том, что «актер, который играет, руководствуясь рассудком (réflexion), изучением человеческой природы [la nature humain], неустанным подражанием идеальному образцу [modèle idéal], воображением (imagination), памятью [mémoire], – будет одинаков на всех представлениях, всегда равно совершенен: все было измерено, рассчитано, изучено, упорядочено в его голове [mesuré, combiné, appris, ordonné dans sa tête]; нет в его декламации ни однотонности, ни диссонансов. Пыл его имеет свои нарастания, взлеты, снижения, начало, середину и высшую точку. Те же интонации, те же позы, те же движения; если что-либо и меняется от представления к представлению, то обычно в пользу последнего. Такой актер не переменчив: это зеркало, всегда отражающее предметы [une glace toujours disposée à montrer les objets], и отражающее с одинаковой точностью, силой и правдивостью [vérité]. Подобно поэту, он бесконечно черпает в неиссякаемых глубинах природы [lefonds inépuisable de la nature], в противном случае он бы скоро увидел пределы собственных богатств»[20]. Хочется воскликнуть: «Да актер ли это?!» Ведь перед нами платоновский мудрец, у которого тоже есть и рефлексия, и идеальная модель, и число для упорядочивания мира и, наконец, для которого мир тоже есть театральная игра. Обратим внимание на ключевые слова, объясняющие источник «величия» такого актера: он обращается к «неиссякаемым глубинам природы». Прежде всего важно, что кроме двух перспектив – актера и зрителя – появляется объективная (абсолютная?) точка отсчета: природа. Важно и то, что природа имеет lefonds inépuisable: т. е. она позволяет актеру выходить из любого ограниченного контекста в пространство творческой свободы, причем выходить легитимно, не в экстатическом произволе, а в союзе с объективностью, поскольку от себя актер привносит только зеркальность, способность нейтрально отражать мир.
В то же время Дидро отнюдь не жертвует эмоциональными способностями актера, предлагая дистинкцию чувства и чувствительности. «Быть чувствительным [sensible] – это одно, а чувствовать [sentir] – другое. Первое принадлежит душе [ате], второе – рассудку [jugement]. Можно чувствовать сильно – и не уметь передать это. Можно хорошо передать чувство, когда бываешь один, или в обществе, или в семейном кругу, когда читаешь или играешь для нескольких слушателей, – и не создать ничего значительного на сцене. Можно на сцене, с помощью так называемой чувствительности, души, теплоты, произнести хорошо одну-две тирады и провалить остальное; но охватить весь объем большой роли, расположить правильно свет и тени, сильное и слабое, играть одинаково удачно в местах спокойных и бурных, быть разнообразным в деталях, гармоничным и единым в целом, выработать строгую систему декламации, способную сгладить даже срывы поэта, возможно лишь при холодном разуме [tête fwide], глубине суждения [profond jugement], тонком вкусе [goût exquis], упорной работе [étude pénible], долгом опыте [longue expérience] и необычайно цепкой памяти [ténacité de mémoire][21].
В этой развернутой программе рационализации вдохновения обращает на себя внимание хорошо темперированное соотношение между чувством и средствами его передачи. Более того, средства оказываются значительнее, чем транслируемая эмоциональная материя, и скорее могут претендовать на статус цели, чем она. Ведь эти средства, собственно, и есть разум, который может бесконечно погружаться в любую иррациональную стихию и возвращаться с эстетической «добычей». Но и мир «души» не приносится в жертву «рассудку». Если во времена Корнеля «sensibilite» держали на коротком поводке, то Дидро не сомневается в том, что рассудок должен погрузиться в душевный апейрон; причем ему, в сущности, все равно, в какой именно, поскольку предусмотренной классицизмом иерархии предметов, достойных изображения, для эпохи Дидро почти уже нет. В конце концов, речь идет об игре актера, а не о миссии философа, и это немало говорит о смене приоритетов. Другое дело, что, подчиняя себя эмоциональной стихии, актер самой своей способностью кристаллизовать переживание и повторять его сколь угодно часто переворачивает заданное отношение и заставляет чувство служить себе. Нужно ли удивляться, что об этой инверсии пишет Дидро – крестный отец «диалектики слуги и господина»?
С чем же боролся философ, формулируя свой «парадокс об актере»? Похоже, что мы имеем дело с одной из самых значительных попыток реванша рациональности после убедительной победы чувствительности и воображения, одержанной в эпоху, условно говоря, раннего Руссо.
Весьма показательно в этом отношении творчество любимца Дидро – Шардена. Поворот, осуществленный Шарденом, это нечто большее, чем неслучайная «эскизность», проницательно замеченная Дидро, но свойственная в пору зрелости XVIII в. не одному Шардену. Здесь речь идет уже о метаморфозе художественного пространства, которое теперь несовместимо с идеальным моделированием: трудно представить Шардена, расставляющего восковые фигурки в «перспективном ящике». У Шардена перед нами – рекурсивный ход культуры, которая нуждается в том, чтобы скрепами феноменального мира стали чувственные перцепции, субъективное время и та сила, которая может их объединить, – эмпирическая индивидуальность. Иногда отмечают (М.И. Свидерская, В.С. Библер), что замечания Дидро о Шардене зачастую противоречат друг другу. Так, В.С. Библер обращает внимание на парадоксальность, «органическую несогласованность» эстетики вкуса Дидро. «Вкус Дидро, вкус безусловно „просвещенный“, удовлетворяется лишь тогда, когда художественное произведение воспринимается одновременно – как природа, как нечто совершенно естественное и – вместе с тем – как нечто неестественное, искусственное, классическое, идеальное, стоящее выше природного образца, точнее, вне этого образца»[22]. То, что мы уже знаем о «Парадоксе», позволяет увидеть в этой «несогласованности» как раз последовательное проведение принципа субстанциального союза художника и природы. Но только Дидро в художнике видит начало неаффективное, независимое от гипноза эмоций, а в природе – начало, стоящее за явлениями, трансфеноменальное, безусловно объективное. Однако ведь в таком случае речь идет о Разуме и Бытии, о концептах, вытесненных, казалось бы, новыми универсалиями: Человеком и Природой. Дидро осуществляет реверсивный культурный ход, предчувствуя, как можно предположить, демонизацию этих универсалий в культуре грядущего века. Несомненно, он тем самым идет против наступающей эпохи «самовыражения», против течения, которое и сегодня еще может считаться доминантой. Но в то же время его идеал – отнюдь не то, что С.С. Аверинцев называет идеалом рассудочно-риторического дискурса. Дидро находится в области отхода от риторической традиции, предшествуя таким гениям переломного времени, как Гёте и Пушкин, и закладывая основы нового канона.