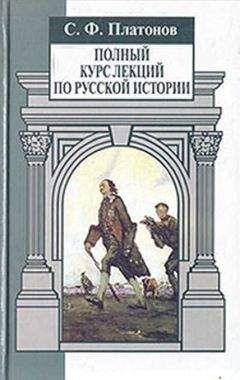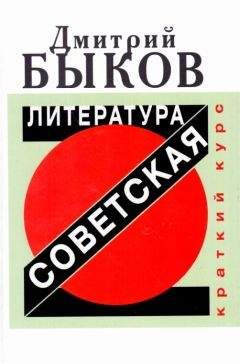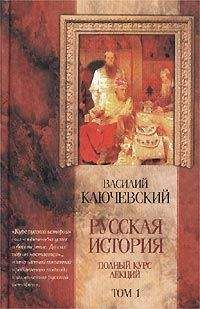Тимур Евсеенко - От общины к сложной государственности в античном Средниземноморье
Долговременными были и некоторые реальные унии. Например, Австро-Венгерская империя просуществовала более полувека (с 1867 по 1918 г.). В отличие от ранее упоминавшихся государственных соединений, входившие в нее государства признавались равноправными. Именно равноправную конфедерацию, основанную на общем учредительном соглашении или ином акте конституционного характера, часто имеют в виду, когда говорят о конфедерациях вообще. Вероятно, чтобы иметь возможность отличать такое образование от иных форм конфедеративного объединения, имеет смысл назвать его конфедерацией в узком смысле слова. Между ней и рыхлым международным альянсом существует множество разновидностей конфедеративной организации: от государства государств до реальной унии. Последняя не всегда формируется по австро-венгерскому образцу. В частности, она может отличаться от классической конфедерации неравноправием субъектов и даже установлением отношений зависимости между ними (пример, Российская империя и Царство Польское в 1815–1831 гг.).
Но при многочисленных различиях существует одна общая черта: все перечисленные разновидности конфедеративной организации являются «длящимися» союзами государств, и все они обладают при этом некоторыми признаками союзного государства. Именно это обстоятельство обеспечивает возможность данным конфедеративным объединениям демонстрировать значительную степень устойчивости, а при определенных обстоятельствах создает вероятность превращения таких союзов в федерацию.
Впрочем, конфедеративный союз, не распадаясь, может и не эволюционировать к большему единству, а длительное время сохранять относительную стабильность, постепенно приспосабливаясь к новой ситуации. Другое дело, что такой союз оказывается перед риском политического распада при любом резком изменении в положении его субъектов, когда возможность для плавного приспособления к новой действительности отсутствует. Именно это произошло с Австро-Венгрией. Военное поражение, совпавшее с тяжелым системным кризисом, побудило венгерскую правящую элиту пойти на разрыв союза с Австрией, а активная поддержка победившей Антантой сепаратистских движений в Чехии, Польше и на Балканах не позволили империи выжить. Аналогично обстояли дела с крушением другой известной конфедерации – Британской империи. Упорное нежелание правящих кругов Великобритании пожертвовать хотя бы частично господствующим положением своей страны (при том, что экономические основы такого господства все более становились достоянием истории), привело к постепенной переориентации доминионов на других партнеров. Когда это произошло, запоздалые попытки сторонников «имперской федерации» исправить дело не могли уже привести к положительному результату[70]. Тем не менее, обе конфедерации благополучно существовали в течение длительного времени, и их распад сам по себе не дает оснований признавать конфедеративную форму государственного устройства чем-то ущербным. Политическая карта мира изменчива, и легко убедиться, что за то же время (50–80 лет) исчезли или трансформировались и многие унитарные и федеративные государства. Однако эти формы государственного устройства никем не считаются ущербными или переходными. Так что дело, видимо, в ином. Переходный характер конфедерации определяется не временем ее существования, а двойственностью ее природы. Из трех основных форм государственного устройства (а конфедерацию следует относить к числу таковых), конфедеративная форма является наименее устойчивой. Впрочем, это не означает, что она не может оказаться наиболее подходящей для того или иного государства в конкретный отрезок времени.
Из вышесказанного можно сделать некоторые выводы. Во-первых, в литературе конфедерация может трактоваться двояко: и как межгосударственный союз, и как форма государственного устройства. Она содержит в себе признаки как одного, так и второго. Более правильным, однако, является именно вторая, а не первая трактовка. Во-вторых, конфедерация, безусловно, может стать этапом на пути трансформации межгосударственного объединения в союзное государство-федерацию, даже шагом на пути к построению унитарного государства с автономиями. Но это не значит, что ее следует рассматривать только в качестве такой переходной формы. Это – совершенно самостоятельная форма государственного устройства, равноправная и с унитарным государством и с федерацией. Конфедеративная форма способна в течение длительного времени обеспечивать существование союза государств, защиту их общих интересов, а при благоприятных условиях способна трансформироваться в иную, более прочную форму государственного объединения.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что сложное государство способно выступать в разнообразных видах, причем далеко не все из них существуют в настоящее время. Однако это вовсе не означает, что нет необходимости изучать исчезнувшие разновидности сложного государства. Напротив, их изучение позволяет разрешить сложную проблему классификации этих форм государственного устройства на основе языка современной науки, а следовательно, выяснить пригодность этого самого языка для изучения и таких государственных форм (или их разновидностей), которые могут возникнуть в будущем.
Глава 2. Государство и государственные соединения в античном мире
§ 1. Община и государство в древнем мире
Особенности социально-экономического развития древнего мира уже более двухсот лет волнуют исследователей. Многие ученые-антиковеды ощущают потребность объяснить, почему вслед за поразительным расцветом ремесла и торговли, после многовекового расширения экономической базы древних цивилизаций наступал период упадка – упадка, не сводимого к техническому застою, к простому воспроизведению однажды достигнутого уровня производства, но идущего к прогрессирующей натурализации всего хозяйства, к отказу от бесспорных достижений предшествующего периода, к нарастающей деградации научного знания и ремесленного производства.
По-видимому, главной причиной подобного развития является характер древней экономики, основанной на соединении натурального в принципе хозяйства с относительно развитым товарным производством. Дело здесь отнюдь не в ограниченных объемах товарного производства (объемы его сами по себе как раз могли быть весьма значительными). Дело в натуральной ориентации хозяйства (даже самого высокотоварного). Исходной точкой здесь является поведение товаропроизводителя, который, стремясь продать по наибольшим ценам свой товар, в свою очередь отнюдь не стремится к приобретению «чужих» товаров. Видимо, причина этого – сравнительно низкий уровень производительности труда, при котором в больших масштабах возможен только неэквивалентный обмен. Следовательно, покупной товар, как правило, очень дорог, и приобретать его следует только тогда, когда его нельзя произвести в собственном хозяйстве (по крайней мере, в достаточном количестве) или когда он может быть использован в качестве предмета накопления (сокровища или «на черный день»). В качестве средств накопления, которые к тому же можно легко превратить в любые необходимые товары, лучше всего могли быть использованы деньги и другие изделия из благородных металлов. Поэтому получение именно их в обмен на товар становилось целью каждого товаропроизводителя.
Эта идея будет впоследствии воспринята рядом экономистов-теоретиков Нового времени. Дифирамбы активному внешнеторговому сальдо, превалированию экспорта над импортом станут обычными для эпохи развивающегося капитализма. И лишь немногие теоретики зададутся резонным вопросом: «Но если все производители товаров станут вести себя подобным образом, то кто же станет потребителем того, что ими произведено?»
Каков будет результат развития экономики при подобном поведении товаропроизводителей? Простейший логический анализ легко покажет: затоваривание рынков, превышение предложения над спросом и, как результат, неизбежные экономические кризисы. Именно так и случится при капитализме, и лишь длительная эволюция с неизбежной трансформацией ряда общественных и экономических институтов позволит обществу постепенно приспособиться к кризисам как к неизбежному злу, превратив их из разрушительной катастрофы в механизм болезненной, но необходимой саморегуляции экономической жизни. Однако все это произойдет много позднее. Древность же не знала кризисов перепроизводства, но она не знала и промышленной революции или индустриализации сельского хозяйства. В чем же причина этого явления? Очевидно, в том, что потребность в деньгах и торговом обмене парадоксально сочеталось с совершено иными тенденциями экономической жизни.
«Экономический идеал» древности можно выразить одним словом – автаркия. Именно замкнутым и самообеспечивающимся целым предстает идеальное общество и государство в трудах мыслителей древнего мира. Идеал этот, разумеется, недостижим в принципе. Даже самые «самообеспеченные» социумы, например древнейший Египет, нуждались в привозных товарах. Получить их можно было лишь двумя путями: или обменять у владельцев (производителей) на товары своего собственного производства, или, если предложить в обмен было нечего или партнеры почему-то не желали согласиться на обмен, отнять силой. Неэквивалентная торговля или грабительская война – иных способов приобретения импортных вещей просто не было. Однако следует отметить то, что монопольный доступ к отдельным видам импортных товаров мог временами иметь большое значение для стабильного существования общества. В качестве примеров монопольного доступа можно привести контроль над путями доставки олова (до широкого распространения стали) или зерна (в самых развитых древнегреческих полисах или в классическом Риме). Данное исключение, однако, не отменяет общего правила. Страх перед потенциально враждебным внешним миром и приходящими оттуда бедствиями – голоду, вражеским нашествиям, эпидемиям – требовал укрытия в собственном маленьком, самообеспечивающемся мирке. Стремление к автаркии поэтому было свойственно для любого древнего общества.