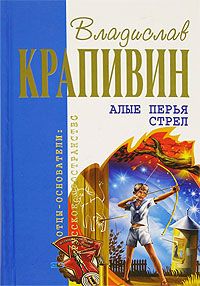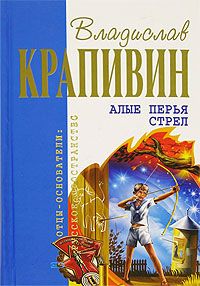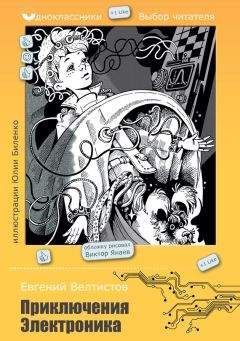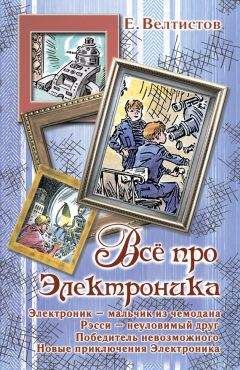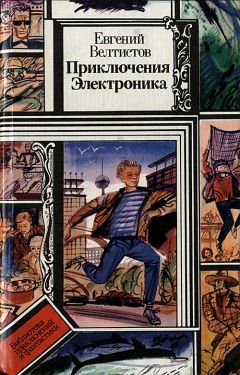Владислав Крапивин - Алые перья стрел
Вот португальские эскудо, кубинские и доминиканские песо с историей открытия Америки: «Санта-Мария», «Пинта», «Нинья», индейцы, портреты капитанов кораблей и их адмирала — Христофора Колумба. Вот знаменитый серебряный полудоллар США, выпущенный сто с лишним лет назад в честь открытия Нового Света. Вот доллары острова Питкерн, на который высадились мятежники после восстания на корабле «Баунти»: на монетах история этого бунта и поселения на Питкерне. Вот маленькие, похожие на медные таблетки фунты острова Джерси с известными шхунами фрегатами, бригантинами и бригами. Вот тяжелые никелевые кроны острова Мэн, посвященные юбилею парового судоходства: на них суда от первых колесных пароходов восемнадцатого века до лайнеров-гигантов «Мавритания» и «Куин Элизабет»… Паруса, адмиралы, гербы разных стран с кораблями, якорями и штурвалами, тонко отчеканенные карты морских экспедиций, конкистадоры, портовые города, маяки… И это не только на монетах. Еще и на посвященных истории русского флота медалях — похожих на юбилейные рубли, только без обозначения цены…
Поразглядывав сокровища и погрозив пальцем попугаю, Командор укладывал монеты в кляссеры. До следующего раза.
Потом… в отряде «Каравелла» не оказалось призов для победителей парусных гонок, и Командор отдал медали с Петром Первым, Берингом и кораблями. Ладно. В конце концов, это же не монеты…
Но вскоре пришла и очередь монет. В наше время писатели не очень-то процветают, с пиратским ножом к горлу подступило безденежье. И пришлось отнести в клуб нумизматов дорогие юбилейные монеты… Ну и пусть! В конце концов, Командор всегда считал, что это не настоящие монеты, а так, вроде памятных медалей и сувениров. Настоящие — те, что ходили по рукам, побывали в разных городах, ими расплачивались на заморских рынках и в портовых тавернах. Пусть они потертые, побитые, зато «правдашные», как говорили в детстве. А юбилейные… красивые конечно, с зеркальной полировкой, в прозрачных футлярах, в коробках с бархатом, но это же специально для коллекций. Дышать на такие страшно, не то что расплачиваться ими. И смешно же: надпись «Три рубля», а продаются за много тысяч! Нет, это не монеты в полном смысле… Так утешал себя Командор…
В Библии сказано: «Время разбрасывать камни и время собирать камни…» Что поделаешь, если пришла пора разбрасывать? Но ведь делать это можно по-разному. Можно так, чтобы другим была радость. И Командор стал дарить монеты своим хорошим друзьям в дни их рождения…
Редкостей и серебра в коллекции не осталось. И едва ли она теперь представляет интерес для солидных нумизматов и любителей ценностей. Кому нужна эта обшарпанная медно-никелевая мелочь?.. Но для тех, кто любит флот и знает корабли, она все равно интересна. Есть монеты и для того, чтобы при свете свечи разглядывать каравеллы и бригантины (и слышать при этом свист ветра в такелаже и картавый голос попугая Флинта), и для того, чтобы при случае сделать подарок хорошему человеку.
И если кто-нибудь из юных читателей пришлет Командору письмо с умными вопросами или с рассказом об интересном случае из своей жизни, Командор обещает в ответ отправить ему какую-нибудь монету с корабликом. Чтобы он не отперся от обещания, редакция даже спрятала все монеты в сейф. Теперь никуда не денешься, придется посылать. Ну, не всем конечно, а, скажем, десятку авторов самых понравившихся писем. В благодарность за такое письмо и в память о давнем приятеле Юрике, который на берегу Туры подарил Славке старинную сибирскую монету.
P. S. Теперь, готовя очерк для книжного издания, вспоминаю, что посылать монеты десятку читателей не пришлось. Отправил только троим. В том числе двенадцатилетней читательнице с Дальнего Востока, с которой несколько лет обменивался (и обмениваюсь) письмами. Ее письма — удивительные. Это серьезные и увлекательные. рассказы о ребячьей жизни, и почти в каждом — замечательные стихи. Я послал девочке целую коллекцию — доминиканские песо с историей открытия Америки…
А недавно я написал роман «Семь фунтов брамсельного ветра», в котором главная героиня — тринадцатилетняя Женя Мезенцева — очень напоминает девочку, несколько лет рассказывавшую мне в письмах про свои радости и тревоги, про друзей и родных. В романе есть история про то, как Женька подаренные ей на день рождения монеты с корабликами раздарила своим друзьям.
Прочитав роман, девочка спросила меня в письме: «Владислав Петрович, а как вы узнали, что монеты, которые вы прислали, я раздала ребятам? Я вам про это не рассказывала…»
А я не знал. Догадался. Просто у нее такой характер, что она, привыкшая радовать друзей, не могла поступить иначе…
«СКАЖИТЕ НАМ, ПОЖАЛУЙСТА. .» (Разговоры с читателями)За сорок лет редакционной и литературной жизни автору этих строк приходилось много-много раз встречаться с читателями. Так много, что не сосчитать. Чаще всего — с ребятами. Это были встречи в библиотеках, в школах, в пионерских лагерях, в детских клубах, в книжных магазинах. А иногда и в таких необычных местах, как, скажем, палуба большого парусника, пальмовый сквер в портовом районе Гаваны или кают-компания учебного судна юных польских яхтсменов в Гданьске…
И ребята были разные, и вопросы их. И все-таки, все-таки… в конце концов среди вопросов оказывались такие, что повторялись очень часто. Потому что во всякие годы многих мальчишек и девчонок (да и взрослых тоже) интересовали «вечные темы» писательского бытия. И в конце концов, отправляясь на очередную читательскую конференцию, Командор уже знал, о чем его спросят обязательно. Из таких вот неизбежных вопросов он и решил составить протокол заочной встречи с любителями его книжек.
Но не думайте, что это сухая схема, где вопросы задают какие-то абстрактные, ненастоящие девочки и мальчики. Ничего подобного! Писатель прекрасно помнит ребят, которые спрашивали его о том и о сем. И сейчас он за каждым вопросом видит его живого автора, даже если прошло уже немало лет. Примеры? Пожалуйста…
Обычная школа в Кировском районе Свердловска. Актовый зал, где пахнет краской и сухими половицами сцены. Аккуратная шестиклассница с красной ленточкой на волосах (заглянув на всякий случай в бумажку) спрашивает:
— Владислав Петрович, скажите нам, пожалуйста, где вы родились и как протекало ваше детство?
— Родился в Тюмени, осенью тридцать восьмого года. А детство… протекало, так сказать, оно в основном в военные и послевоенные годы. Сами понимаете, время было непростое. Впрочем, и сейчас тоже… В первый класс я пошел в сорок пятом.
Постоянное ощущение дошкольной поры — очень хотелось есть. Несмотря на то, что и мама, и старшие брат и сестра (они работали на оборонном заводе) делились со мной своими пайками. От голода и частой стужи (не хватало дров) на долгие годы поселился во мне ревматизм… Но были и радости жизни: письма с фронта от папы; горящая печка с раскаленной плитой, на которой можно поджаривать тонкие ломтики картофеля (кажется, сейчас это называется «чипсы»); книжки про Буратино, Гулливера и детей капитана Гранта, которые я брал у соседей. Читать-то я научился очень рано…
Помню девятое мая сорок пятого года, когда пьяный от радости сосед-военный с крыльца палил в воздух из маленького черного браунинга…
После войны у отца появилась другая семья. А у меня — отчим. Человек с тяжелой судьбой, со сложным характером. Бог с ним, я не помню обид, только вот одного простить ему не могу: однажды он убил мою любимую кошку, которая, по его словам, таскала из кладовки еду…
Послевоенные годы тоже не были сытными. И все же я вспоминаю их с теплой радостью. Кажется, стояло вечное лето. Длинные жаркие дни — с футболом, с воздушными змеями, с короткими бурными грозами и яркими влажными радугами после них. И была у нас, мальчишек, самая большая радость — река Тура. С береговыми косогорами, песчаными отмелями и старинными развалинами на обрывах.
Мне мое детство казалось похожим на детство Тома Сойера — героя любимой книжки. Так же шлепали гребными колесами на реке пароходы, так же мы с друзьями играли в разбойников и пытались отыскать клад. Золота, правда, не нашли, но старинные монеты нам иногда попадались… А каким радостным, просто ошарашивающим открытием был для меня дядюшкин рассказ, что с нашей реки — через Тобол, Иртыш и Обь — можно приплыть прямо к Ледовитому океану! Я пускал в желтую воду Туры сосновые кораблики и надеялся, что их в конце концов увидят белые медведи. Я погружал в нашу реку ладони и соединялся с Океаном!
И все это я помню и сегодня. До мелочей.
Много лет назад, но уже совсем взрослым я сочинил такие стихи:
Заросшая узкоколейка —
Путь из далекой страны.
Листики тополя клейкие,
Запах поздней весны…
Светкин пушистый локон
У твоего лица…
Тайна, что бродит около…
Мамин голос с крыльца…
Дождики босоногие,
Мяч футбольный в пыли…
Это было у многих.
А многие сберегли?
Я сберег… От некоторых взрослых я слышал, что они совсем не помнят своего детства. И они словно бы даже хвастались этим. Чего, мол, вспоминать всякую ерунду? Мне жаль этих людей. По-моему, они обокрали себя. И уж конечно, такие люди не смогли бы стать детскими писателями…